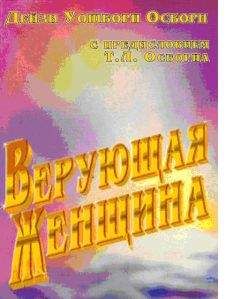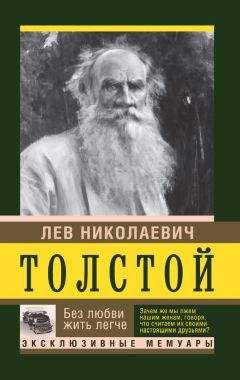Лев Толстой - Утро помещика
– Неспорно, ваше сиятельство, – вы нам худа не желаете, да дома-то побыть некому: мы с бабой на барщине – ну, а он, хоть и маленек, а все подсобляет, и скотину загнать и лошадей напоить. Какой ни есть, а все мужик, – и Чурисенок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его.
– Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время, – слышишь? непременно.
Чурисенок тяжело вздохнул и ничего не ответил.
V
– Да я еще хотел сказать тебе, – сказал Нехлюдов, – отчего у тебя навоз не вывезен?
– Какой у меня навоз, батюшка ваше сиятельство! И возить-то нечего. Скотина моя какая? кобыленка одна да жеребенок, а телушку осенью из телят дворнику отдал – вот и скотина моя вся.
– Так как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят отдал? – с удивлением спросил барин.
– А чем кормить станешь?
– Разве у тебя соломы-то недостанет, чтоб корову прокормить? У других достает же.
– У других земли навозные, а моя земля – глина одна, ничего не сделаешь.
– Так вот и навозь ее, чтоб не было глины; а земля хлеб родит, и будет чем скотину кормить.
– Да и скотины-то нету, так какой навоз будет? «Это странный cercle vicieux»[2], – подумал Нехлюдов, по решительно по мог придумать, что посоветовать мужику.
– Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а все бог, – продолжал Чурис.-Вот у меня летось на пресном осьминнике шесть копен стало, а с навозкой и крестца не собрали. Никто как бог! – прибавил он со вздохом.-Да и скотина ко двору нейдет к нашему. Вот шестой год не живет. Летось одна телка издохла, другую продал: кормиться нечем было; а в запрошлый год важная корова пала; пригнали из стада, ничего не было, вдруг зашаталась, зашаталась, и пар вон. Все мое несчастье!
– Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет оттого, что корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот тебе на корову, – сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кармана шаровар скомканную пачку ассигнаций и разбирая ее, – купи себе на мое счастье корову, а корм бери с гумна, – я прикажу. Смотри же, чтоб к будущему воскресенью у тебя была корова: я зайду.
Чурис так долго, с улыбкой переминаясь, не подвигал руку за деньгами, что Нехлюдов положил их на конец стола и покраснел еще больше.
– Много довольны вашей милостью, – сказал Чурис с своей обыкновенной, немного насмешливой улыбкой.
Старуха нескольио раз тяжело вздохнула под полатями и как будто читала молитву.
Молодому барину стало неловко; он торопливо встал с лавки, вышел в сени и позвал за собой Чуриса. Вид человека, которому он сделал добро, был так приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним.
– Я рад тебе помогать, – сказал он, останавливаясь у колодца, – тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться – и я буду помогать; с божиею помощью и поправишься.
– Уж не то, что поправиться, а только бы не совсем разориться, ваше сиятельство, – сказал Чурис, принимая вдруг серьезное, даже строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предположением барина, что он может поправиться. – Жили при бачке с братьями, ни в чем нужды не видали; a вот как помер он да как разошлись, так все хуже да хуже пошло. Все одиночество!
– Зачем же вы разошлись?
– Все из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки вашего не было, а то при нем бы не посмели: тогда настоящие порядки были. Он, так же как и вы, до всего сам доходил, – и думать бы не смели расходиться. Не любил покойник мужикам повадку давать; а нами после вашего дедушки заведовал Андрей Ильич – не тем будь помянут – человек был пьяный, необстоятельный. Пришли к ному проситься раз, другой – нет, мол, житья от баб, позволь разойтись; ну, подрал, подрал, а наконец, тому дело вышло, все-таки поставили бабы на своем, врозь стали жить; а уж одинокий мужик известно какой! Ну да и порядков-то никаких не было: орудовал нами Андрей Ильич как хотел. «Чтоб было у тебя все», – а из чего мужику взять, того не спрашивал. Тут подушные прибавили, столовый запас тоже сбирать больше стали, а земель меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну, а как межовка пришла, да как он у нас наши навозные земли в господский клин отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть помирай! Батюшка ваш – царство небесное – барин добрый был, да мы его и не видали, почитай: все в Москве жил; ну, известно, и подводы туда чаще гонять стали. Другой раз распутица, кормов нет, а вези. Нельзя ж и барину без того. Мы этим обижаться не смеем; да порядков не было. Как теперь ваша милость до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы другие стали, и приказчик-то другой человек стал. Мы теперь знаем хоша, что у нас барин есть. И уж и сказать нельзя, как мужички твоей милости благодарны. А то в опеку настоящего барина не было: всякий барин был: и опекун барин, и Ильич барин, и жена его барыня, и писарь из стану тот же барин. Тут-то много-ух! много горя приняли мужички!
Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд пли угрызение совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше.
VI
«Юхванка Мудреный хочет лошадь продать», – прочел Нехлюдов в записной книжечке и перешел чрез улицу, Ко двору Юхванки Мудреного. Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего светло-серого осинового леса (тоже из барского заказа), с двумя выкрашенными красными ставнями у окон и крылечком с навесом и с затейливыми, вырезанными из тесин перильцами. Сенцы и холодная изба были тоже исправные; но общий вид довольства и достатка, который имела эта связь, нарушался несколько пригороженной к воротищам клетью с недоплетенным забором и раскрытым навесом, видневшимся из-за нее. В то самое время, как Нехлюдов подходил с одной стороны к крыльцу, с другой подходили две крестьянские женщины с полным ушатом. Одна из них была жена, другая мать Юхванки Мудреного. Первая была плотная, румяная баба, с необыкновенно развитой грудью и широкими, мясистыми скулами. На ней была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха, такая же занавеска, новая панева, коты, бусы и вышитая красной бумагой и блестками четвероугольная щегольская кичка.
Конец водоноса не покачивался, а плотно лежал на ее широком и твердом плече. Легкое напряжение, заметное в красном лице ее, в изгибе спины и мерном движении рук и ног, выказывали в ней необыкновенное здоровье и мужскую силу. Юхванкина мать, несшая другой конец водоноса, была, напротив, одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушения в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная изорванная рубаха и бесцветная панева, был согнут так, что водонос лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее, с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись, держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться; понурая голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза, лишенные ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впалой губы и, беспрестанно шевелясь, сходился иногда с острым подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала; но босые искривленные ноги, хотя, казалось, чрез силу волочась по земле, мерно двигались одна за другою.
VII
Почти столкнувшись с барином, молодая баба бойко составила ушат, потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами исподлобья взглянула на барина и, стараясь рукавом вышитой рубашки скрыть легкую улыбку, постукивая котами, взбежала на сходцы.
– Ты, матушка, водонос-то тетке Настасье отнеси, – сказала она, останавливаясь в двери и обращаясь к старухе.
Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе, которая, выпростав корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно направилась было к соседней избе.
– Дома сын твой? – спросил барии.
Старуха, согнув еще более свой согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что-то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что Нехлюдов, не дождавшись, вошел в избу. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него, поспешно сунул на полати какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. Юхванка был русый парень лет тридцати, худощавый, стройный, с молодой остренькой бородкой, довольно красивый, если б не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который тотчас бросался в глаза, потому что губы его были коротки и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами. Внутренность избы Юхванки не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней так же было душно, пахло дымом и тулупом и также беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то странно останавливали внимание: небольшой погнутый самовар, стоявший на полке, и черная рамка с остатком грязного стекла и портретом какого-то генерала в красном мундире, висевшая около икон. Нехлюдов, недружелюбно посмотрев на самовар, на портрет генерала и на полати, на которых торчал из-под какой-то ветошки конец трубки в медной оправе, обратился к мужику.