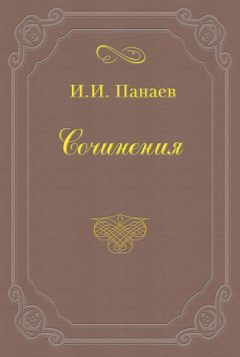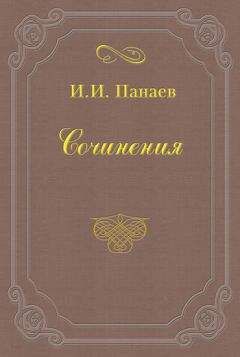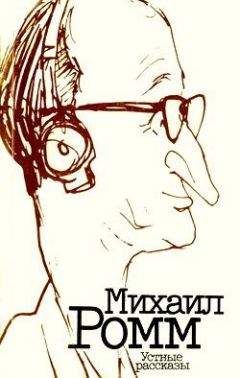Иван Панаев - Она будет счастлива
И Горинъ успокоился немного… Зачѣмъ, кажется, выдумать Свѣтлицкому на Зинаиду, и именно на нее? Къ тому же, развѣ мудрено, что этотъ человѣкъ проникнулъ ея тайну; любовь невольно выскажется сама въ одномъ движеніи, въ одномъ взглядѣ… надобно только умѣть подмѣтить это движеніе, этотъ взглядъ. А онъ проникалъ и не въ однѣ любовныя тайны. Молодой человѣкъ улыбнулся; онъ пріискивалъ въ головѣ всевозможныя доказательства для подтвержденія отрадной для него мысли. Онъ не могь вдругъ обнять своего счастія, и грустное сомнѣніе щемило его сердце.
Когда Горинъ дернулъ за ленту звонка и взглянулъ на лежавшіе возлѣ него часы, было уже половина третьяго.
Неохотно приподнялся онъ съ креселъ, и только приподнявшись, почувствовалъ головную боль, слѣдствіе вчерашняго пира.
Черезъ день послѣ того онъ гдѣ-то встрѣтилъ полковника и назвался къ нему обѣдать. Съ этихъ поръ онъ чаще обыкновеныаго сталъ посѣщать домъ его. А полковникъ былъ въ восторгѣ: онъ всѣмъ и каждому разсказывалъ о своей дружбѣ съ Горинымъ и прибавлялъ къ этому свое длинное разсужденіе о эгоизмѣ людей и о томъ, какъ трудно сдѣлать выборъ друга.
Между тѣхмъ Горинъ совершенно измѣнился. Онъ оставилъ эти разгульныя и разрушительныя игры юности, онъ пересталъ ѣздить въ общества, какъ прежде, отъ нечего дѣлать, для того, чтобы убить время. Жизнь его уже имѣла цѣль, имѣла мысль. Послѣ каждаго свиданія съ Зинаидою онъ открывалъ въ ней какую-нибудь новую обворожительную сторону, которой не подмѣчалъ прежде. Съ каждымъ днемъ она становилась для него привлекательнѣе, и съ каждымъ мигомъ жажда любви росла въ немъ, распаляемая воображеніемъ; но онъ еще не былъ вполнѣ увѣренъ, точно ли она любитъ его. Ему нужны были уже не одни слабые признаки, а полная увѣренность. Это была первая эпоха любви — самая счастливая, самая усладительная! Передъ нимъ лежалъ вѣнокъ, составленный изъ душистыхъ цвѣтовъ мечты и надежды.
Зинаида сначала незамѣтно увлекалась пламенными рѣчами Горина, его роскошнымъ даромъ выраженія, часто этою заносчивостью юнаго чувства; потомъ она стала любоваться его сверкающими очами, привлекательнымъ очеркомъ лица его… Ей хотѣлось вглядѣться въ него пристальнѣй, чтобы короче ознакомиться съ нимъ. Онъ заманилъ ея любопытство. То обыкновенный паркетный любезникъ, то человѣкъ глубокомыслящій, то досадно равнодушный ко всему, то проникнутый чувствомъ; въ одно время восхищающійся посредственною игрою французской актрисы и благоговѣющій передъ дивнымъ величіемъ Наполеона и Байрона: онъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, занимательно страненъ.
Но стараться попнть его, но разсматривать его вблизи не было ли опасно для женщины, окруженной обстоятельствами Зинаиды? Ея любопытство въ этомъ случаѣ не походило ли на любопытство дитяти, которое невинно протягиваетъ свою ручонку къ огню и потомъ вскрикиваетъ отъ боли, обжигаясь?
Однажды, когда въ будуарѣ Зинаиды сомнительное мерцаніе сумерокъ смѣшивалось съ красноватымъ фантастическимъ свѣтомъ огня, разгоравшагося въ каминѣ, она раздумчиво сидѣла противъ этого огня, и мысли ея, съ легкостью плѣнителъной бабочки, перелетая въ очарованный кругъ прошедшаго, порхали съ цвѣтка на цвѣтокъ, съ воспоминанія на воспоминаніе; когда она забывалась въ этомъ мірѣ, имѣвшемъ для нея уже всю поэтическую прелесть отдаленности; когда передъ очами ея возставали свѣтлые, святые образы ея дѣтства; когда грудь ея хотѣла облегчиться долгимъ вздохомъ; когда глаза ея начинали туманиться слезами и эти слезы засверкали на длинныхъ томныхъ рѣсницахъ… дверь будуара скрипнула.
Она вздрогнула, сердце ея сильью забилось; она съ судорожнымъ движеніемъ поднесла платокъ къ глазамъ и, тотчасъ отдернувъ его, оборотилась къ двери.
У этой двери стоялъ Горинъ, казалось, не смѣя сдѣлать шагъ впередъ и будто выжидая ея привѣта.
Лицо Зинаиды примѣтно измѣнилось.
— Ахъ, это вы! — произнесла она слабымъ, едва слышнымъ голосомъ.
— Простите меня, — произнесъ онъ, бросая на нее испытующій взглядъ, — можетъ быть, я не кстати прервалъ ваше уединеніе…
— О, нѣтъ, нѣтъ… ничего… — возразила она, но голосомъ замѣтно робкимъ… — Вы видѣли Вольдемара?
— Кажется, его нѣтъ дома, — хладнокровно отвѣчалъ онъ.
— Въ самомъ дѣлѣ, вы правы, его нѣтъ съ самаго утра… Что жъ вы не сядете?
— Скажите откровенно: я помѣшалъ вамъ…
— Отчего вы такъ думаете? — торопливо прервала она. — Право, нѣтъ! Знаете ли, передъ вашимъ приходомъ я замечталась. Со мной это часто случается. — Она улыбнулась. — Сегодня утромъ я получила письмо изъ деревни отъ матушки, и мои мысли невольно обратились къ прошедшему. Мнѣ такъ бы хоѣтлось въ эту минуту видѣть ее, быть съ нею… Но правда ли, это простительная прихоть? — прибавила она послѣ минутнаго молчанія.
— Теперь я еще больше, еще сильнѣе вижу мою неловкость. Но я, право, нехотя разрушилъ ваши мечты, и, несмотря на то, я безпощадно заслуживаю наказанія…. Неправда ли, я теперь похожъ на тѣхъ злодѣевъ, которые часто своими докучливыми посѣщеніями, вовсе не подозрѣвая того, вырываютъ лучшія минуты у поэта, минуты его вдохновенія? О, это безбожно! А мечтающая женщина — развѣ это не поэтъ? Она еще выше поэта. Она сама вдохновляется и вдохновляегъ другихъ…
Зинаида потупила очи, пригладила рукою гладкія шелковистыя тесьмы волосъ — и отодвинулась отъ камина, потому-что лицо ея пылало…
Горинъ смотрѣлъ на нее и чувствовалъ, какъ могучими кольцами, будто змѣя, страсть обвивала его… и сильнѣй и крѣпче давила въ своихъ кольцахъ и впускала въ него свое ядовитое жало… Тутъ онъ впервые понималъ вполнѣ, что мужчина можетъ сдѣлаться рабомъ женщины.
Когда Зинаида подняла очи и украдкою, боязливо, взглянула на него, въ этомъ взглядѣ блеснулъ для него небесный лучъ, радужный лучъ надежды — и сердце его затрепетало, отозвалось на этотъ взглядъ…
— Отчего вы такъ задумчивы?.. — снросила Зинаида Горина, который, опустивъ свою голову на руку, смотрѣлъ на тѣнь ея пожекъ, соблазнительно лежавшихъ на богатомъ коврѣ.
— Я думалъ, — отвѣчалъ онъ, — о томъ, что я скоро долженъ или совершенно помириться съ жизнью, или разссориться съ нею навсегда…
— Зачѣмъ же разссориться? — возразила она.
— Потому что съ нѣкотораго времеии… я не принадлежу самому себѣ…
Онъ остановился, онъ хотѣлъ договорить ей страстнымъ пламеннымъ языкомъ очей то, чего не смѣлъ произнести словами, чего не могъ выразить бѣдными условными звуками.
Легкая дрожь пробѣжала по ея тѣлу.
Дрова почти догорѣли въ каминѣ, и только легкій огонекъ, разноцвѣтно и прихотливо перебѣгая, потухалъ, оставляя на черномъ пеплѣ яркія звѣздочки, будто на флерѣ, обсыпанномъ блестками… Въ будуарѣ было темно…
Зинаида пришла въ себя… Она теперь только замѣтила, что будуаръ не былъ освѣщенъ, что она сидѣла наединѣ съ нимъ, и торопливо схватила лежавшій на столѣ колокольчикъ…
— Поскорѣй освѣтить комнаты! — сказала она вошедшей горничной.
Черезъ четверть часа Горинъ, лежа въ коляскѣ, мчался домой…
— Эта женщина несравненна… но она, кажется, недоступна, — мыслилъ онъ.
Кровь кипѣла въ юношѣ, и мысли его бродили въ какомъ-то туманѣ, и образъ ея роскошно обнималъ его воображеніе. Въ это время онъ былъ готовъ на все — за одинъ любовный взглядъ ея…
Такъ прошелъ мѣсяцъ. Горинъ сдѣлался уже необходимымъ лицомъ въ домѣ полковника. Онъ былъ, какъ говорятъ, другъ дома. Можетъ быть, онъ не сомнѣвался болѣе въ любви Зинаиды, но эта любовь не подвинулась ни на шагъ противъ прежняго. Она съ тяжкою болью таила въ своемъ сердцѣ престугное чувство, она силилась побороть себя и желала отдалить Горина. А эта борьба распаляла его еще болѣе…
Разъ какъ-то между довольно длиннымъ разговоромъ, который могъ служить прекраснымъ образомъ энциклопедической болтовни гостиныхъ, Свѣтлицкій намекнулъ Горину, что въ обществахъ стали замѣчать его отсутствіе. Горинъ молчалъ. Черезъ нѣсколько минутъ Свѣтлицкій подвелъ разговоръ къ тому же.
— Въ самомъ дѣлѣ, съ нѣкотораго времени, — говорилъ онъ, — васъ почти не встрѣчаютъ ни въ театрахъ, ни въ залахъ. Это добрый знакъ… Видно вамъ наскучило безъ пользы расточать любезность передъ всѣми. Вы сосредоточились, вы посвятили себя одному предмету. Такъ и должно. Нельзя же вдругъ гоняться за нѣсколькими бабочками… Не такъ ли?
Онъ засмѣялся и взялъ Горина за руку.
Брови Горина примѣтно надвинулись на глаза… Онъ кусалъ нижнюю губу.