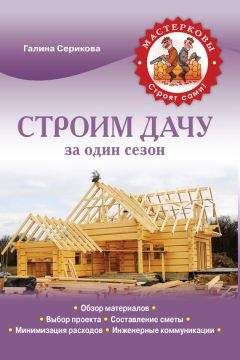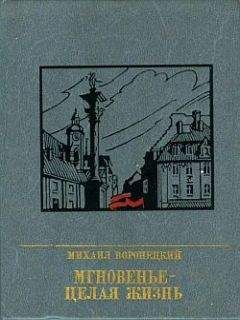Константин Федин - Наровчатская хроника, веденная Симоновского монастыря послушником Игнатием в лето 1919-е
Я покинул опустевшее жилище с такою грустью, как если бы бросил на произвол сироту. Моя личная печаль уступила место тревоге за судьбу Афанасия Сергеевича, и я молил господа оградить его от греха.
Пока я находился с толпою около дома Вакурова, меня разыскивали в монастыре. В самом деле, уйти не сказавшись в такое время, когда с минуты на минуту могло разразиться над монастырем несчастье, было легкомыслием немалым. Войдя в келию отца Рафаила, я застал его готовым к походу.
- Пойдем, - строго сказал он и вышел, не удостоив меня благословения.
Лошадей у нас давно отобрали, и это был первый после революции поход отца Рафаила в город. Он шествовал молча, опираясь на посох и по уставу не подымая глаз от земли. Я следовал за ним в трех шагах и чем более вглядывался в его величественную и одновременно смиренную поступь, тем явственнее чувствовал, что этим человеком руководит некая бескорыстная решимость. И тогда внезапно меня обуял стыд за свою суетность и за все свое ничтожное существо. Но непонятность намерений отца Рафаила и его безмолвие беспокоили меня выше меры, так что боль стыда скоро во мне утихла, и я осмелился спросить:
- Куда направляете, отец Рафаил, ваши стопы?
Но настоятель продолжал молчать.
И так дошли мы до главной улицы и до бывшей управы, где ныне помещается совет. Тут отец Рафаил остановился, осенил себя крестом, как перед входом во храм, и знаком руки велел мне открыть дверь.
Я повиновался с замиранием сердца, не предвидя ничего доброго в последующем. Между тем отец Рафаил с прежней покойной решимостью проследовал по лестнице и коридору и, встретив служителя, спросил, где можно говорить с товарищем секретарем совета. Тот отвечал, что надлежит подождать, пока секретарь придет, и отвел нас в его приемную. Там никого не было. Отец Рафаил опустился посреди комнаты на колени, лицом ко входу, и велел сделать мне то же, указав место рядом с собою. Я исполнил приказание. Тогда отец Рафаил сказал:
- Ложись, - и сам пал ниц.
Я лег, и так мы лежали короткое время в тишине, головами к открытой двери, как бы в покаянии. Потом раздались поспешные и громкие шаги, кто-то вошел в приемную и сразу остановился.
- Что это? - расслышали мы недоуменный возглас, - что это такое?
Затем наступила пауза, после которой тот же голос, но заметно повысившись, опять вопросил:
- Кто это? Зачем вы здесь? Что за...
Тогда отец Рафаил, не шевельнувшись, с мольбою произнес:
- Не подымемся, доколе не внемлешь.
На что опять тот же голос, подкрепленный ударом ноги об пол, отвечал грозно:
- Встать, встать, немедленно встать!
- Не подымемся, доколе...
- Встать, говорю, встать!
И так пошло: отец Рафаил, не двигаясь, настаивал, чтобы его выслушали, а неизвестный, топавший у наших голов башмаками, не унимался и кричал, чтобы мы встали. Потом он заявил решительно:
- Я не скажу с вами ни слова, пока вы валяетесь на полу, - и выбежал, крича на весь дом: - кто их пустил сюда, черт подери! (Да простится мне это черное слово, записанное лишь ради одной истины.)
Отец Рафаил и я продолжали неподвижно лежать, когда кто-то подошел к нам и толкнул по очереди сапогом довольно чувствительно:
- Ладно прикидываться, подымайтесь, не то подымем силком...
Делать было нечего, и отец Рафаил, поднявшись, велел мне встать. Тогда в приемную вошел секретарь совета, и я по голосу узнал, что это он на нас кричал и топал ногами. Однако в лице его я не только не приметил свирепости или гнева, но даже показалось мне, что он легонько улыбается, хотя чему приписать улыбку в таком серьезном положении, я не мог понять и подумал, что это у него от природы.
Отец Рафаил рассказал секретарю, что, по частным сведениям, власти предполагают поместить в монастыре лазарет, и что такое действие равнозначит полному закрытию обители, так как монастырь и без того стеснен до предела детской больницей с приютом, называемым интернатом. Секретарь выслушал доводы отца настоятеля со вниманием и отвечал кратко:
- Отправляйтесь к себе, я у вас буду и сам осмотрю помещения.
Мы поклонились в пояс и покинули совет обнадеженные, так что отец Рафаил сказал мне:
- Сразу видно человека по обращению: кричал он на нас из совестливости и хорошего воспитания. Бог не без милости...
Напрасны были наши надежды. День, начавшийся с беспокойства, готовил новые испытания. Для меня они были горьки и непосильны, ибо теперь, когда я веду свою запись, неведомые доселе чувства раздирают меня и малодушие мое так велико, что я не в силах даже помолиться. Я призываю все свое мужество, чтобы правдиво описать срам, испытанный мною.
Дело в том, что не успел я с отцом Рафаилом войти в монастырский двор, как нас догнала коляска, из которой выскочил секретарь совета. Полная неожиданность приезда его ошеломила даже отца настоятеля, и он, как бы приняв секретаря за наваждение, осенил его крестом. На лице того я опять заметил улыбку, и он сказал:
- Ну, покажите мне ваши помещения.
Но у нас ничего не было приготовлено к встрече такого посетителя, и следовало бы предотвратить возможные нечаянности, хотя бы простым упреждением братии. Поэтому отец Рафаил, показав рукою на новый корпус, предложил:
- А вот, пожалуй, начнемте с тех строений, которые у нас уже отобраны властями под детский приют, называемый интернатом, и под больницу.
Говоря это, отец настоятель взглядом дал мне понять, чтобы я уведомил братию о прибывшем. Но секретарь вдруг заявил:
- Нет, чего же смотреть на то, что отобрано, давайте посмотрим, что еще не отобрано...
И здесь началось! Только-только мы поднялись на крыльцо, как из корпуса вывалился брат Порфирий с лукошком, полным жареных пирожков, от которых шел пар.
- Это вы что же, на базар? - спросил секретарь.
- Так точно, гражданин, в толкучку, - словно обрадовавшись, рявкнул брат Порфирий, - не желаете ли, свеженьких - с яйцами, со пшеном, с ливерочком...
Отец настоятель отстранил Порфирия с дороги и дал секретарю посильное объяснение:
- Доходов в монастыре почти не стало, братии же нужно поддерживать существование, хотя бы самое нищенское. Отсюда - необычные для монашествующих занятия...
Я поглядел на секретаря, и недоброе предчувствие вселилось в мою душу: быть беде, - подумал я, - у секретаря улыбочка-то не от природы, а от других качеств.
Отец Рафаил повел его по коридору, открывая по очереди двери, и объясняя:
- Вот тут у нас кладовая для хозяйственных предметов, тут пекарня, тут орудия для полевых работ - у нас ведь трудовое общество, коммуна, как говорится. А вот тут начинаются келии для братии нашего монастыря...
Он отворил дверь. Келия была пуста, койки не прибраны. Отец Рафаил открыл другую дверь. Здесь тоже было пусто и непорядку - пуще, чем в первой.
- А братия торговать ушла? - спросил секретарь.
- В трудах братия, на разной работе, - отвечал отец Рафаил, подводя секретаря к следующей келии.
Три человека вскочили из-за стола, едва мы показались в дверях. Только одного из них я знал, других видел впервые. Все они были без подрясников и почему-то прятали руки за спины и в карманы. В келии стоял табачный чад. На столе я различил картуз табаку Бостанжогло. Секретарь быстро подошел к одному из этих людей.
- Вы чем занимаетесь? - спросил он.
- Безработный, - ответил тот.
- Что вы тут делаете? - вмешался отец настоятель.
- Истинный бог, мы не на деньги, отец Рафаил.
- Нет, нет, вы меня верно поняли. Раньше чем занимались? - допытывался секретарь.
- Бакалеей.
- То есть торговали?
- Лавочку держал, не бог весть какую. После разорения не имею средств, стеснен...
Я не мог более глядеть на отца Рафаила, поверженного в уныние, ни на картежников и убежал в свою келию.
Боже мой, господи! Что стало из нашей обители? Пристанищем какого люду сделались ее святые стены? И неужели я ослеплен настолько, что не вижу, как на благолепии и святости произросли тлен и нечестие бесовское? Горе мне, горе!
По скором отъезде секретаря совета отец Рафаил замкнулся и прислал ко мне келаря сказать, чтобы я отправился в женский монастырь и узнал, как обернулось дело с колоколом. Я понял, что наши монастырские обстоятельства после нечаянного визита очень ухудшились, и как ни подавлен был случившимся, однако превозмог себя и пошел в город.
У матери казначеи меня ожидали утешительные вести. Пря между начальствующими закончилась на вящее посрамление военкома: колокол возвратили монастырю и подвесили на прежнее место силами воинов Красной армии.
Преисполненные благодарности к секретарю совета, христолюбивые сестры пожелали ознаменовать одержание победы над беззаконием каким-либо вещественным актом. Посему мать казначея обратилась к секретарю с просьбою принять от монастыря для совета красное знамя, расшитое золотом и позументами, работы благодарных монахинь, послушниц и учениц. На такую просьбу секретарь отвечал, что никаких подношений совет от монахинь не примет, так как это противно духу новейших законов, но что ежели в монастырских мастерских на красное знамя может быть принят заказ, то совет заплатит, сколько будет стоить работа. Заказ был, разумеется, принят тотчас же, и мать казначея водила меня в мастерскую, где трудятся над знаменем рукодельницы. Я осмотрел полотнище, растянутое на пяльцах, и пришел в восхищение от искусности вышивки и подбора позументных украшений. Посреди знамени парчевым галуном из золота, каким делают оторочку на дорогом церковном облачении, расшиты слова, полученные на особой бумажечке от секретаря, при заказе: "Мы свой, мы новый мир построим". Кругом этих слов воздушными фигурами идет золототканый газ, по краям же знамени спускается бахрома и на углах - кисти. Вообще весь вид богатой гражданской хоругви порадовал меня отменно, и я ушел от богоспасаемых сестер растроганный.