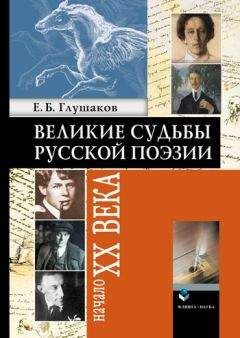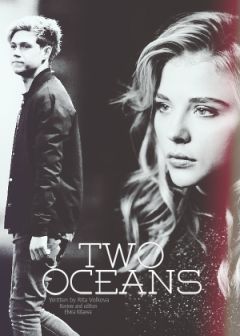Юрий Домбровский - Только одна смерть
Женька подошел к двери, постоял, послушал, постучал одним пальцем, еще постучал и ушел. Когда через час отец пришел, в кухне сразу стало очень шумно. Все обсуждали Женькино поведение, пьет, не работает, нигде его не держат больше месяца. Недавно осудили на 15 суток, а он скрылся, милиция ходила к жене и все допрашивала, где он. А жена отвечала: "Не знаю. Вы милиция, вам лучше знать." А он у матери прятался. И вот при всем этом он приходит, нализавшись, ночью и требует, чтобы разбудили Иру. Как же, сейчас, спешим!
И я тоже подивился Женьке: да, действительно, раз уж развелись, так что ж ходить еще. Никакой самостоятельности нет у парня. А режиссер, так тот еще и прибавил: вот попадет он еще два разика на пятнадцать суток, дадут 206-ю статью и из Москвы, на 101-й километр.
И все мы понегодовали, покачали головой, осудили его и решили: парень плохо кончит. Еще месяц, еще два...
Но плохо кончил он в этот же вечер. Вероятно, через минут двадцать после того, как в последний раз стукнул пальцем в мою дверь, не сказав свои последние два слова.
Какие же были они, эти слова? Этого уж никто не узнает. Покончили с ним, вероятно, сразу, просто рубанули сзади. Не по плечу, как это полагается в честной топорной драке или рубке, а подло, поперек туловища, словом, его не разрубили, как полено, вдоль, а свалили поперек - как дерево. Топор прошел через ребра, кишки, легкие, позвоночник, даже, кажется, почку. Но Женька упал не сразу, у него еще хватило сил добраться до уборной на первом этаже. Там он выхватил откуда-то таз и выскочил с ним на улицу. На пороге он и свалился. Так покатился и загрохотал, выскочили жильцы и увидели: под лампочкой лежит человек, лицом в снег, снег мокрый, багровый, талый, дымится. Перевернули - Женька! По автомату вызвали "скорую". Приехала "скорая", подняла Женьку и увезла к Склифосовскому. Вот и все, что известно. Ни на один вопрос, который рекомендован древними для установления истины, где? кто? когда? с чьей помощью? при каких обстоятельствах? с какой целью? следствие ответить не смогло. Где? - официально на пороге его же дома - но вот бродят же по переулку темные слухи, что не так это: что после удара он прополз еще метров тридцать.
Пустырь, на котором стоит его дом, - это по существу зады старого рынка. Они состоят из несокрушимо глухих цитаделей: склады, лабазы, задние стены магазинов, какие-то хозяйственные строения с железной дверью, без окон. И безлюдье. И полное ночное безлюдье, среди несокрушимых купецких твердынь этого поистине купеческого кремля. Ни фонаря, ни лампы, ни оконных проемов, только железные решетки и железные двери и нескончаемые, вдвинутые друг в друга проходные дворы. Тишина, темнота, звук глушится о камень. А рядом тут же большие, современные здания, котельная, трубы, детская площадка, великолепная школа, школьный садик, на котором летом разводятся какие-то лекарственные растения. Но все это как в футляр засунуто внутрь кирпичной кладки, так что кричи не кричи - никто тебя не услышит. Вот, говорят, там, в этом каменном сосредоточье и ухлопали Женьку. Так или не так - не знаю. Не знаю и того, пошел ли он от нас домой, или пошел дальше, туда, где его уже поджидали убийцы (или убийца?). Знал ли он их? Сговаривался ли с ними о чем-нибудь? Обманул ли? Не удовлетворил ли каких-то их претензий, или, может, просто они боялись, что он их выдаст в чем-то, - тут уж ничего не поймешь и ничего не разрешишь. Последнее время Женька, как я говорил, жил очень путано: водка, бега, драка, первая жена, вторая жена, первый развод, второй развод, дележ квартиры, какие-то товарищи, выскакивающие из углов, топор всегда крутится возле такой мути.
Кто? Вот это, конечно, основной вопрос. Ответа на него нет, да и вряд ли будет.
Ведь милиция застала его уже умирающим.
А потом... ну, знаете, как раньше пели по дворам под шарманку:
В больницу привозили,
Ложили на кровать,
Два доктора с сестрицей
Старались жизнь спасать.
И дальше:
Спасайте, не спасайте,
Мне жизнь не дорога.
Жизнь Женьке, действительно, была не дорога. Ведь если бы два доктора с сестрицей и спасли его тогда, он на всю жизнь остался бы коечным инвалидом. У него ведь была разрушена вся нервная система и перебит позвоночник, разрублены легкие. Но вот что удивляет меня больше всего. Ведь помимо двух докторов и сестрицы сидел над Женькой и еще кто-то, жадно вслушивающийся в его бред. Потом один уходил, приходил другой, другого сменял третий и так всю ночь, - все они хотели вырвать из перерубленных Женькиных недр хоть что-то о его убийце, хоть намек, хоть бред какой-то, но ничего не вышло. Никаких имен Женька не назвал, ни одного намека не обронил даже. Умер и все.
И когда его тетка сообщила кому-то из группы "по делу об убийстве..." последние слова умирающего Женьки: "Тетя, что же я сделал кому плохого? За что меня так?" - главный махнул рукой и сказал без всякого выражения: "Э-э." Это явно не шло к делу об убийстве.
"И вот он мертв и взят могилой", и не только мертв, но еще изрублен, изрезан, забыт, и в нашей квартире поговорить мне о нем не с кем. За стеной живет его молодая жена, но она уже давно жена другого, еще за другой стеной, через коридор, его тесть и теща, но они говорят: "А мы ведь сколько раз его предупреждали, что он так кончит", - и значит с ними тоже не поговоришь. Проходные дворы, где его убили, обследованы, прощупаны, сфотографированы но так ничего и не сказали, но я все хожу по этим купеческим крепостям и школьным садикам и все смотрю: не попадется ли мне навстречу большая черная кошка с шелковистой шерстью и голубыми глазами. Не остановится ли она и не скажет ли мне "мяу".
Вот с ней бы мы уж, действительно, наговорились!
Комментарии
Рассказ впервые опубликован в журнале "Простор", 1986 г., э 6.
В основу рассказа положены действительные события, происходившие в "коммуналке", в которой жил писатель. У героя рассказа Женьки был прототип Генка.