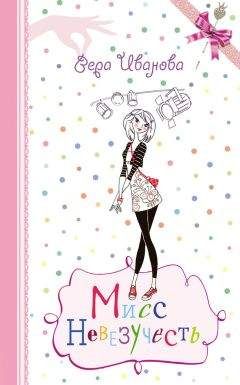Лидия Чуковская - Дом Поэта (Фрагменты книги)
"Сам Тынянов приспособлялся хуже других и подвергался непрерывным погромам, пока не стал писать романов, которые пришлись ко двору".
Не знаю, к какому двору пришлась проза Тынянова, — она прочно вошла в русскую литературу; громили в свое время придворные люди тыняновскую прозу не с меньшим рвением, чем его литературные теории.
Беру на выбор:
"…трактовка материала в повести Тынянова является прямым снижением жанра исторического романа, и по существу, идеалистическим искажением всех основных фактов эпохи"1.
"Алпатов и Брик уверяют, что Тынянов проводит дух реакционного историзма, что романы его беспринципны"2.
(Очень пришлись ко двору романы Тынянова, как же!)
Тынянов, один из умнейших людей своего поколения, был объявлен "представителем социального маразма". Это меня не удивляет, это закономерно, естественно. А вот добавочных унизительных умствований со стороны Надежды Яковлевны, в дополнение к Ермиловским, могло бы и не быть…
Надежда Яковлевна рассказывает, как однажды ей с Мандельштамом повстречался на улице "еще владевший движениями" Тынянов. Они недолго поговорили о чем-то и простились. Мандельштам сказал жене: Тынянов, по-видимому, вообразил себя Грибоедовым (369) [336]. Допускаю, что это так и было: Тынянов, по желанию, свободно мог обратиться в Грибоедова. Что ж. Но у Надежды Яковлевны за пазухой камень: ей необходимо унизить человека, хотя бы и тяжко больного, который: "еще владел движениями".
"Кюхельбекером он стать не решился, — комментирует она дружескую встречу, — опасно".
Да ведь и Грибоедов испустил дух не на цветущем лугу!
Запертый, он пережил ужас приближения убийц — и они убили его. Опасно! Очень опасно!
"Грибоедовым тоже не очень сладко быть, — спохватывается Надежда Яковлевна, — но он все же имел минуту передышки и погиб не от своих, а от чужих, что всегда легче" (369) [336].
Быть может, воздержавшись от садизма сравнивания двух смертных потов, двух смертных хрипов, почтить уважением оба? Тынянов написал роман о Грибоедове и роман о Кюхельбекере, стало быть, во всяком случае, «решился» вообразить себя и тем и другим, и решился не на минуту, не при случайной встрече с друзьями на улице, а надолго, у себя за письменным столом, на годы. Тынянов в "Восковой персоне" первым осудил террор, и именно этого не прощала ему «критика». Даже без тяжкой, многолетней, безнадежной болезни быть Юрием Тыняновым в двадцатые-тридцатые годы нашего века в России не вполне безопасно. Не безопасны такие строки в журналах:
"Совершая экскурсы в далекое прошлое, он пытается представить никчемными все общественные реформы и революции.
Не только философия Тынянова реакционна, но реакционен его творческий метод"3.
Опасно, очень опасно! На волосок от гибели. Сложна русская жизнь. Издевка над ней — занятие недостойное.
-----------------------------------
1 И. Р у б а н о в с к и й. Гнилой либерализм за счет кровных интересов большевизма // Вечерняя Москва. 22 декабря 1931.
2 В. Д и т я к и н. Литературное наследство классиков марксизма // Октябрь. 1934. № 7.
3 Б. В а л ь б е. Юрий Тынянов и его исторический метод // Ленинград. 1931. № 10.
-----------------------------------
Поразительно то пренебрежение, та брезгливость, с какой пишет Надежда Яковлевна о так называемом "простом человеке", не о соседях своих по Олимпу, а о соседях по коммунальной квартире, не о служителях Муз, а всего лишь о сослуживцах по Педагогическому институту.
"Были ли у нас силы, чтобы хоть кого-нибудь пожалеть?" — спрашивает Надежда Яковлевна на странице 653 [590]. У кого это "у нас"? У Надежды Яковлевны не хватало сил даже на то, чтобы удерживать себя от злорадства.
…Вот Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич живут еще в Москве до ссылки, снимают комнату у нэпмана. Перегородки тонкие, семья шумная (трое детей), Мандельштаму жить и работать неудобно. А тут еще несчастье, из-за которого в квартире поднимается уж совсем невыносимый шум: нэпман арестован, дети осиротели, голодают — сын нэпмана не ходит в школу и целыми днями ревмя ревет.
Прошу читателя оценить и дать название чувству, какое владело пером Надежды Яковлевны, когда она описывала это несчастье.
"За нэпманом пришли, и целую ночь мы слушали, как трое молодцов орудовало в соседней комнате — квартира была, конечно, двухкомнатная с тоненькой переборкой вместо стенки… В какой-то щели молодцы нашли кучку червонцев, но мы знали, что эти деньги были сознательно засунуты в очень приметное место, как жертва разгневанному богу. Нэпман заранее договорился с женой, что она отчаянно взвоет, когда обнаружатся червонцы, и мы услыхали ее вполне талантливый вой и искренний визг детей, не посвященных в детали инсценировки" (592–593) [536].
Надежда Яковлевна ведет свое повествование дальше:
"Дети продолжали посещать школу… Мальчишка, как внезапно оказалось, не мог перенести жизни, которую ему создали в школе учителя и соученики. Целыми днями мы слышали его рев… Мальчишка выл… Цены уже начали расти, и мать, вздыхая, перечисляла, что истрачено за день. Утро начиналось с приготовления завтрака: каша и чай особого сорта. На непитательный сушеный китайский лист в этой семье не тратили. Покупалось молоко, и мать разбавляла его на кухне водой. Молоко закрашивало воду легкой мутью… мальчишка выл… Он выл с утра до вечера, но, к счастью, рано ложился спать. После одиннадцати вопли умолкали, и Мандельштам, выпив своего чаю, который я норовила заваривать раз в сутки, а он выл1 и требовал свежей заварки, ложился на кровать и тихонько лежал, наслаждаясь тишиной…"
Таково сочувствие Надежды Яковлевны к голодным сиротам и к их матери. Которые пьют воду, слегка окрашенную молоком. К семье соседей.
-----------------------------------
1 Надеюсь, это опечатка: вряд ли Мандельштам, лишившись крепкого чая, вел себя так же, как голодный мальчик, лишившийся отца.
-----------------------------------
Об осиротелом мальчике пишет она далее так:
"Для мальчишки, впрочем, открывалась отличная дорога прямо к лучезарному счастью — ему следовало осудить отца, порвать с прошлым и оказать услугу начальству, порывшись у нас в бумагах. На всякий случай я носила бумажки с "Четвертой прозой" в сумке, хотя знала, что в те годы начальство нами почти не интересовалось. Если мальчишку использовали, то скорее всего для разоблачения отца — куда он припрятал червонцы? — и всех его друзей и знакомых — в чьих огородах закопаны кубышки с бумажными деньгами?" (595) [538].
"Если мальчишку использовали"… "отличная дорога прямо к лучезарному счастью"… А почему Надежда Яковлевна смеет предполагать, что этот мальчик на эту подлую дорогу вступил? Потому, что он плакал, не осушая глаз, день за днем, когда увели отца?
Думает Надежда Яковлевна о будущей счастливой службе мальчишки в «органах» не почему-либо — оснований у нее нет, — а для чего: и начальство еще, по ее же словам, Мандельштамом не интересовалось; и мальчишка никаких попыток рыться в бумагах не делал — думает она так для того, чтобы оправдать позор собственного бездушия. Мальчик мог вступить на эту дорогу стало быть, это уже заранее дает ей право глумиться над ним.
В моих глазах по уровню душевной культуры недалеко ушла Надежда Яковлевна от тех троих молодцов, которые делали обыск в семье нэпмана. В моих глазах ни полушки не стоит всё ее христианство и все ее разоблачения насильничества, если она так, такими словами, с такими интонациями, с таким неуважением к горю может рассказывать о чьей-то (мне все равно чьей) разлученной, голодной, гибнущей, сгинувшей невесть куда и невесть за что семье.
Такова натура мемуаристки, такова ее природа, ее отношение к людям — в том числе и к товарищам по несчастью, — явленное нам не в разговорах о доброте человеческой, не в декларациях о самоотречении и сознании греха, а в том, что достовернее любых деклараций: в стиле, в эпитетах и глаголах, в уменьшительных (они же уничижительные): во всех этих повестушках, стишках, виршах, статейках, а также дурнях, идиотах, в мимоходных и длинных плевках. Природа ли? Или клеймо, наложенное эпохой бесчеловечья?.. Всё в этой книге работает на уничижение человеческой личности и на умиленный восторг перед собственной персоной: Наденькой, Надей, Надюшей, Надеждой Яковлевной, перед ее болезненностью, милой избалованностью, очаровательной вздорностью, легкомыслием, детским почерком, милыми платьицами, даже перед пижамой "синяя в белую полоску" (160) [149] и, главное, перед ее небывалым, неслыханным мужеством.
"Откуда… взялась стойкость, которая помогла мне выжить и сохранить стихи?" (564) [510] — торжественно спрашивает Надежда Яковлевна. Не подвергая сомнению стойкость Надежды Мандельштам, я, в ответ на ее вопрос, хочу задать еще один: к кому она обращается? Кого о собственной стойкости она спрашивает? Своих современников? Людей, переживших Первую мировую войну, потом две революции, потом Гражданскую войну, потом сталинщину (ежовщину, бериевщину), а потом еще одну мировую… Читаешь, от стыда опуская глаза: "Откуда взялась стойкость, которая помогла мне…"