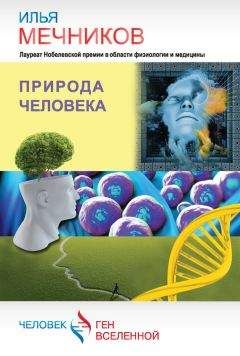Вячеслав Шишков - Пейпус-озеро
Он свернулся под одеялом, - покойной ночи, дорогая Варя, покойной ночи! - сверху накинув шинель: нервная дрожь не давала ему уснуть. Ночные часы шли, как скрипучие колеса: кто-то кашлял, скрежетал зубами, чья-то сонная рука чиркнула спичку и пых-пых голубой дымок. Это Масленников. И вновь тишина, и та же дрожь. Лохматый прапорщик храпит, но ухо свое освободил от пряди густых поповских косм и чутко насторожил его к окну. За окном мороз и ночь. Стекла расписаны морозом, и морозный месяц серебрит узор. Да... Варя не в Париже, не в Юрьеве. Варя умерла, отец ее погиб, его дочь - белокурая Ниночка, погибла. Какой ужас... какой кошмар... Только лает их пес Цейлон... Вот он скребет в дверь, вот он стучит лапой в окно, и головастая тень потушила на стекле серебряную роспись.
Николай Ребров не видит - глаза полузакрыты, а чувствует: заскрипела койка, легкий ответный удар в раму, чьи-то шлепающие по полу босые шаги.
- Вы, Ножов?
- Тсс... Тихо...
* * *
Масленников и другой писарь Онисим Кравчук, жирный хохол с красным губастым ртом устраивали вечеринки с плясами. Писарей восемь человек, приходили со стороны солдаты и две-три эстонских дамы. Играли на двух гитарах и скрипке (Онисим Кравчук), отплясывали польки, вальсы, а в перерывы - щупали эстонок. Окна завешивались шинелями. На улице дежурил младший писарь. Оскорбленные эстонцы пронюхали про вечеринки и пожаловались начальству. Очередная пирушка была разогнана. Писаря об'явили эстонцам войну, но сами же первые и попали в переделку. Масленникова и Кравчука, возвращавшихся в пьяном виде из гостей, хорошо вздули эстонцы: Масленникову подшибли оба глаза, Кравчуку разбили нос.
- Нехай так, - похвалялся потом Кравчук. - Я ж ему, бисовой суке, вси нози повывихлял... О!
Из-за эстонок дрались между собой и солдаты. Как-то пьяная компания солдат бросилась трепать вышедшего из шинка в вольной одежде человека. К удивлению солдат - вольный человек оказался офицером. Как? Офицера?! Офицер осатанел, скверно заругался и стал стрелять. Солдаты разбежались, отругиваясь и грозя:
- Пошто в шинок ходишь?! Пошто не в форме?!
- Мы, ваше благородие, за чухну приняли.
- Постой, бела кость! Обожди... Всем брюхо вспорем!..
- Куда вы нас, так вашу, завели?! Жалованье не выдаете, наши денежки пропиваете...
- Теперича мы раскусили, за кого вы стоите... Чорта с два за учредиловку!.. За царя да за помещиков...
Скандал до главного начальства не дошел. Но главное начальство замечало, что армия начинает "разлагаться". Меры! Какие ж меры? Как поднять дисциплину, ежели почти все офицерство впало в злобное уныние от неудачного похода, предалось кутежу и безобразиям? Кредиты иссякли, паек урезан, жалованье выплачивается неаккуратно, а с нового года возможен роспуск армии, если наши дипломаты не сумеют урвать добрый куш там, в верхах, на стороне.
* * *
- Это что у тебя, Масленников, с глазами?
- Корова, ваше благородие...
- Что ж, задом?
- Сначала задом, потом передом...
Бледные губы ад'ютанта задрожали, но он сдержался и, бросив бумажку, приказал:
- Переписать. Наврал.
А тот побитый, щупленький, из какой-то бригады, офицерик подвязал платком скулу, конечно - флюс - и чуть-чуть прихрамывал.
Стал волочить ногу и бравый генерал, начальник дивизионного штаба, где служил Николай Ребров. Однако не любовные утехи поразили превосходительную ногу, нога испугалась общего положения дел армии, и вот - решила бастовать. Генеральский подбородок спал, кожа обвисла, как у старого слона, обнаружилась исчезнувшая шея и красный воротник сделался свободен.
Генерал получил, одно за другим, два донесения с мест. Читал и перечитывал сначала один, потом совместно с ад'ютантом при закрытых дверях. Выкурил целый портсигар, нервничал, пыхтел, нюхал нашатырный спирт, стучал по столу кулаками:
- Мерзавцы! Я этого не позволю... Вешать негодяев!
Первое донесение - о невозможности бороться с большевистской пропагандой и первом побеге группы солдат в Русь. Второе - о начавшейся среди армии эпидемии брюшного тифа.
- Да, генерал, да, - проговорил ад'ютант. - Не хотелось мне огорчать вас, но вот еще сюрприз: эстонское правительство официально заявляет о своем намерении вступить в переговоры с Советским правительством. Даже назначен срок - январь будущего года. Место - Юрьев.
Генерал побелел, покраснел и стал ловить ртом воздух.
- Откуда, откуда это? - задыхался он.
- Хотя эти сведения "по достоверным источникам", как пишет газета, но я думаю, генерал, что на этот раз правда.
- Послушайте, поручик! Это ж невозможно, это ж невозможно... - и генерал схватился за голову. - Тогда в каком же положении окажется здесь наша армия?
Ад'ютант саркастически улыбнулся и сказал:
- В положении разлагающегося трупа, который начинает беспокоить обоняние хозяев...
- А вы, поручик, как-будто... как-будто...
- Впрочем должен вас успокоить, генерал, - быстро изменил ад'ютант тон и выражение лица, - эстонское правительство просто-напросто желает себя вывести из состояния войны с Советской Россией...
- Тьфу! С Совдепией!
- Что же касается признания ее, то...
- Этого еще не доставало! - стукнул генерал пустым портсигаром в стол.
* * *
Прапорщик Ножов весь преобразился. Глаза его горели, он походил на сумасшедшего. Иногда пропадал на два дня, являлся измученный, но всегда бодро говорил юноше, таинственно подмигивая:
- Дело на мази. Пропаганда работает. Агитационная литература поступает исправно. Нате-ка вам, товарищ... - он совал ему под подушку пачку листовок. - Необычайно талантливо. Прочтите, и - в дело... Сумеете? Только - молчок...
Как-то мрачною снеговою ночью повторилось то же: легкий стук в окно. К подушке юноши склонилась во тьме встрепанная голова:
- Ну, милый Коля, теперь прощай. - И Ножов навсегда исчез.
* * *
Приближалось Рождество. Письма от Вари не было. В душе все настойчивей вставал образ Марии. Юноша грустил. Перед праздниками ему дали вторую нашивку. Писаря прониклись к нему теперь искренним уважением и потребовали вспрыски. Николай Ребров первый раз в жизни напился пьян. Он был красноречив и откровенен, говорил о Варе, о том, что никогда-никогда не встретит ее больше, много говорил о сестре Марии, о милой далекой родине. Ах, если б крылья!..
- А вот я, братцы, совсем напротив, - улыбался Масленников, румянобелым низколобым лицом и закручивал усы в колечки. - В здешнем крае ожениться думаю... Потому эта кутерьма в России протянется, видать, еще с год. А тут предвидится эстоночка, Эльзой звать... И вот не угодно ли стишки...
- Братцы, слушай... Ты! Кравчук!
- А ну его к бисовой суке! - плакал хохол, сморкаясь и кривя губы. Ой, Горпынка моя... И кто тебя, ведьмину внучку, там, без меня, кохает...
- Брось, пей!.. Все кохают, кому не лень... Братцы, слушай! - Масленников вынул записную книжку, откинулся назад и в бок, прищурил левый глаз, стараясь придать лицу значительность. - Например, так... - он откашлялся, и начал высоким, с подвывом голосом, облизывая губы:
О, моя несравненная девица
Превосходная Эльза юница
Мы гуляли с вами по лесам
И по зеленым лугам
Ваши груди в аромате, как анис,
И любит вас старший писарь
Масленников Денис,
Чего и вам желаю.
- Какая же она юница, раз она вдова и ей под сорок? - глупый стишок! Никакой девицы в ней не усмотреть, - проговорил задирчивый, с маленькими усиками, питеряк Лычкин.
- Что-о?! - и Масленников сжал кулак. - А ты ейный пачпорт видал?!
Писаря ответили дружным ржаньем, даже слеза на хохлацком носу смешливо задрожала и упала в пиво.
- Все видали, все до одного!.. Ейный пачпорт...
- Даже читывали по многу раз...
- Даже после этих чтеньев я две недели в больнице пролежал. Не баба, а оса... Жалит, чорт!..
Началась ругань, потом сильный мордобой. Николай Ребров помнит, как он бросился разнимать, как его ударили по затылку и еще помнит чьи-то вошедшие в его мозг слова:
- А сестра Мария, слыхать, обженихалась.
Глава VI
У поручика Баранова
Николай Ребров за два дня до Рождества зашел поздно вечером к ад'ютанту, поручику Баранову, снимавшему комнату у управляющего имением, эстонца Пукса. Его впустила маленькая женщина с сердитым ничтожным лицом.
- Погодить! Шляются тут. Тьфу!.. Тибла! - и удалилась.
Через минуту Николай Ребров стоял на вытяжку пред ад'ютантом.
- Что угодно? - сухо спросил поручик и приподнялся с кушетки. Он был в одном белье и шинели, в руках газета.
- А, это ты, Ребров? Садись.
- Мне бы хотелось, господин поручик, на праздник в отпуск. Дней на пять.
- Ладно, могу. А ты не удерешь.
- Что вы! Нет...
- А почему? - и поручик, быстро откинув голову назад, прищурился. Юноша мял в руках картуз. Поручик вздохнул и щелкнул рукой по газете: Вот!.. Плохо, брат... Парижская "Фигаро". Плохо пишут из деревни. Колчак бежит. Бежит!.. - он схватил валявшийся на полу сюртук, достал платок и громко высморкался. - Я не понимаю... Хоть убей не могу понять, чем они, дьяволы, берут?.. То-есть... Поразительно... Что?