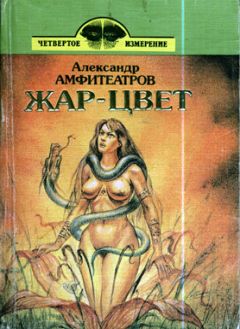Александр Амфитеатров - Паутина
— У Чехова.
— Развѣ? Я ожидалъ: новѣе. Кой чортъ? Неужели я еще Чехова помню? Вѣдь это сто лѣтъ тому назадъ! Впрочемъ, тебѣ и книги въ руки. Вы, офицерство, ужасные консерваторы. Если читаете, то непремѣнно какое-нибудь старье… Такъ вотъ, любезный братъ мой Иванъ, y меня въ головѣ, изо дня въ день, изъ часа въ часъ, идетъ такая же воображаемая игра фотографическими карточками. И каждый, a въ особенности каждая, кто становится мнѣ извѣстенъ, непремѣнно попадаетъ въ эту мою фантастическую колоду и начинаетъ играть въ ней извѣстную роль… Понимаешь? Вотъ гдѣ, если тебѣ угодно знать, я, дѣйствительно, могу быть развратенъ. Ты не повѣришь, какіе смѣлые ходы я придумываю въ этихъ воображаемыхъ фотографическихъ пасьянсахъ моихъ, въ какой дерзкій и безстыдный шабашъ способенъ я смѣшать мою колоду… И этотъ бредъ волнуетъ меня, Иванъ, — признаюсь тебѣ: это волнуетъ и удовлетворяетъ…
Онъ подумалъ и, сильно куря, прибавилъ:
— Больше, чѣмъ настоящее, живое, больше, чѣмъ жизнь… Ты меня видалъ въ аѳинскихъ ночахъ, — и, вонъ, аттестацію даже выдаешь, что я исключительно распутенъ… Но если-бы я могъ разсказать тебѣ, показать, какъ все это y меня въ мозгу сплетается, свивается и танцуетъ… вотъ тогда бы ты понялъ, гдѣ онъ — настоящій то изобрѣтательный восторгъ наслажденія… Тѣло наше дрянь, Иванъ! что можетъ тѣло? Грѣшить до дна умѣетъ только мысль. Когда мысль — одинокая мысль тонетъ въ вожделѣніяхъ, какая тамъ къ чорту, въ сравненіи, нужна тебѣ аѳинская ночь!..
— Ты сойдешь съ ума, Модестъ! ты сойдешь съ ума! — печально твердилъ Иванъ, глубокомысленно качая головой.
Модестъ не отвѣчалъ. Иванъ конфузно потупился.
— Тогда я не понимаю, — робко сказалъ онъ. — Тогда… вотъ ты говорилъ на счетъ капитала… Тогда зачѣмъ тебѣ тратиться на Миличку Вельсъ?
— Ба! — небрежно возразилъ Модестъ. — Да вѣдь она, если хочешь, тоже что-то вродѣ бреда. Жрица богини Истаръ. Я положительно убѣжденъ, что уже зналъ ее три тысячи лѣтъ тому назадъ въ Сузахъ.
Онъ сѣлъ на кушеткѣ, сбросивъ съ ногъ одѣяло, и весело посмотрѣлъ на Ивана оживившимися, значительными глазами.
— Знаешь, — почти радостнымъ голосомъ сказалъ онъ, — знаешь? Вотъ я вижу: ты меня ея любовникомъ считаешь. A вѣдь, между тѣмъ, вотъ тебѣ честное слово: я никогда ея не имѣлъ. Если, конечно, не считать того, что было между нами въ Сузахъ.
Иванъ пожалъ плечами.
— Еще глупѣе.
Модестъ отвернулся отъ брата съ презрительнымъ вздохомъ, опять вытянулся вдоль кушетки и произнесъ менторскимъ тономъ, лежа къ Ивану спиной:
— Глупъ ты. Не понимаешь мучительныхъ восторговъ неудовлетворяемой жажды. Ты никогда не испытывалъ желанія прибить женщину, къ которой y тебя страсть?
Иванъ смутился.
— Да съ какой же стати?
— Никогда? — капризнымъ голосомъ настаивалъ Модестъ.
Иванъ даже бурый сталъ отъ румянца.
— Видишь-ли… Если хочешь… То есть… Вскорѣ послѣ производства… въ полку…
— Ну? — живо обернулся къ нему Модестъ.
— Да ничего особеннаго… Одна этакая… ну, дѣвка то есть… часы y меня стащила…
— Ну? — уже разочарованно повторилъ Модестъ.
— Ну, не выдержалъ, далъ по рожѣ. Не воруй.
— Въ кровь? — жадно спросилъ Модестъ, какъ бы хватаясь хоть за сію-то послѣднюю надежду на сильное ощущеніе.
— Сохрани Богъ! — съ искреннимъ испугомъ воскликнулъ Иванъ. — Что ты! Я и то потомъ чуть со стыда не сгорѣлъ.
— Слизнякъ!.. — со вздохомъ отвернулся Модестъ и долго молчалъ. Потомъ, окружаясь дымомъ, произнесъ порывисто и глухо, такъ что даже напомнилъ манеру Симеона:
— Когда я съ Эмиліей, мнѣ хочется только бить ее.
— Неужели позволяетъ? — изумился Иванъ.
Этотъ простодушный вопросъ засталъ Модеста врасплохъ.
— М-м-м… — промычалъ онъ. — Я мечтаю, что позволяетъ.
— То-то… — столь же простодушно успокоился Иванъ. — У нея такіе глаза, что скорѣе отъ самой дождешься.
Но Модестъ уже оправился, найдя подходящую карту въ фантастической колодѣ своей, и возразилъ съ упоеніемъ:
— Въ этомъ то и шикъ. Мечтать, будто ты истязаешь гордое и властное существо, это настолько прекрасно и тонко, что ты не въ состояніи даже вообразить своими бурбонскими мозгами. Ты обѣдаешь y нея завтра?
— Куда мнѣ съ вами!.. Вы — большіе корабли, a я маленькая лодочка.
— Послѣ обѣда навѣрное будутъ тройки. Дай-ка мнѣ взаймы рублей пятьдесятъ.
— Ей Богу, y самого — только десять, — сконфузился Иванъ. — Если хочешь, возьми семь. Я какъ нибудь… того… ничего… трешницей обойдусь.
— Чортъ съ тобой. Возьму y Скорлупкина. Этотъ болванъ всегда при деньгахъ.
— Съ тридцати-то рублеваго жалованья?
— A хозяйскій ящикъ на что? Всѣ приказчики воры.
— Гмъ… — замялся Иванъ. — Одолжаться подобными деньгами щекотливо, Модестъ.
— Деньги — не дворяне, родословія не помнятъ, — спокойно зѣвнулъ Модестъ.
— Но — если ты самъ увѣренъ, что краденыя?
— Нѣтъ, такого штемпеля я на нихъ не видалъ.
— Тогда — зачѣмъ бросать тѣнь на Скорлупкина?
— A что, онъ завянетъ, что-ли, отъ тѣни моей?
— Да, конечно, не расцвѣтетъ. Я не понимаю, какъ можно такъ неосторожно обращаться съ чужою репутаціей.
— Охъ, ты! Блаженъ мужъ, иже и скоты милуетъ!
— Скорлупкинъ совсѣмъ не скотъ. Хотя необразованный и смѣшной немножко, но очень услужливый и милый молодой человѣкъ.
— Относительно человѣчества его я оставляю вопросъ открытымъ, — зѣвая съ воемъ, сказалъ Модестъ. — A вотъ, что y него рыло красное и лакированное, — это вѣрно. И что, вмѣсто рукъ, y него красно-бурыя потныя копыта какія-то, это тоже сомнѣнію не подлежитъ. И что, съ этимъ-то краснымъ рыломъ и этими-то копытами, онъ изволилъ влюбиться въ нашу Аглаю, — это безспорнѣйшая истина номеръ третій.
— Есть! это есть! — добродушно засмѣялся Иванъ. — Этакій комикъ!.. Очень замѣтно есть.
По лицу Модеста проползла странная больная гримаса, которую онъ поспѣшилъ скрыть въ шутовской, цинической усмѣшкѣ.
— Когда Аглая выйдетъ замужъ, — сказалъ онъ — погаснетъ большой рессурсъ моихъ скудныхъ средствъ. У меня правило: кто въ нее влюбленъ, — сейчасъ денегъ занять.
— До Григорія Скорлупкина включительно?
— Почему нѣтъ? Влюбленный не хуже другихъ. Мнѣ онъ даже предпочтительно нравится. Я ему сочувствую. Я желалъ бы, чтобы онъ имѣлъ успѣхъ. Аглая и онъ — это пикантно. Что-то изъ балета «Красавица и звѣрь».
Глаза y него, когда онъ говорилъ это, были туманные, испуганные, a голосъ глухой, лживый, скрывающій.
— И тутъ контрастъ? — усмѣхаясь, намекнулъ Иванъ на давешній разговоръ.
— И яркій, — сухо сказалъ Модестъ.
— Но безнадежный.
Модестъ долго молчалъ. Потомъ возразилъ тономъ холоднымъ и скучающимъ.
— Вотъ слово, котораго моя миѳологія не признаетъ.
Иванъ неодобрительно закачалъ головою.
— Пустословъ ты, Модестъ. Умнѣйшая ты голова, честнѣйшее сердце, образованнѣйшій человѣкъ, вотъ есть y тебя эта черточка — любишь оболгать себя пустымъ словомъ. Ну, хорошо, что говорится между нами, одинъ я слышу тебя. А, вѣдь, послушай кто посторонній, — подумаетъ, что ты, въ самомъ дѣлѣ, способенъ — такъ вотъ, для спектакля одного курьезнаго — родную сестру какому нибудь чучелѣ Скорлупкину отдать…
Модестъ лѣниво слушалъ, закинувъ руки подъ голову, и улыбался презрительно, высокомѣрно.
— Такъ ты принимаешь это во мнѣ, какъ пустыя слова? — произнесъ онъ протяжно, полный неизмѣримаго превосходства. — Ахъ, ты младенецъ тридцатилѣтній! Ну, и да благо ти будетъ, и да будеши долголѣтенъ на земли… Дай-ка папиросу, младенецъ!
Онъ помолчалъ, закуривая. Потомъ продолжалъ важно, угрюмо:
— Иногда, мой любезный, я такъ пугаюсь себя, что мнѣ и самому хочется, чтобы это были только пустыя слова… Но… Есть что то, знаешь, темное, первобытное въ моей душѣ… какая то первозданная ночь… Ко всему, что въ ней клубится, что родственно мраку, гніенію, тлѣнію, меня тянетъ непреодолимою, противъ воли, симпатіей… Я человѣкъ солнечной вѣры, другъ Иванъ, я былъ бы счастливъ сказать о себѣ, какъ Бальмонтъ:
Я въ этотъ міръ пришелъ, чтобъ видѣть солнце…
Но — представь себѣ: я больше всего люблю видѣть, — наоборотъ — какъ солнце меркнетъ и затмѣвается, какъ его поглощаетъ драконъ черной тучи, высланный на небо враждебною ночью… Когда я еще вѣрилъ и былъ богомоленъ, то часто, за обѣднею, дьяволъ смущалъ меня сладкою мечтою: какъ хорошо было бы перевернуть весь этотъ блескъ, золото, свѣтъ на сумракъ и кровь черной массы… Скажи, Иванъ: ты помнишь, какъ зародилась въ тебѣ первая половая мечта?
— Ну, вотъ, что вздумалъ спрашивать, — добродушно сконфузился Иванъ.
— Однако?
— Чортъ ли упомнитъ… глупости всякія…
— Нѣтъ, ты припомни!..
— Да, ей Богу, Модестъ… Что тутъ вспоминать?… Никогда ничего особеннаго… Я, вѣдь, не то, что вашъ брать, утонченный человѣкъ…