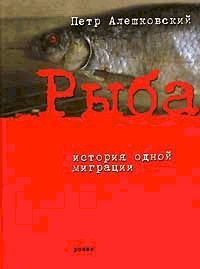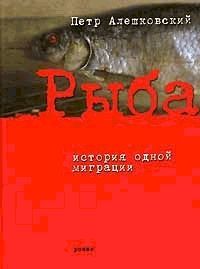Алешковский Петр - Рыба. История одной миграции.
5
Так мы поглядывали друг на друга, и каждая жевала свой сухой стебелек. Тени на кухендизе начали окрашиваться в малиновый цвет — из-за замкового холма вставало солнце. Малиновый цвет подползал и к городищу-шахристану, медленно проливался в разделявшее нас ущелье. По нему из горных кишлаков в Пенджикент шла старая дорога, упиравшаяся своим концом в базарную площадь. Стало очень тихо, ветер смолк, камни и пахса приготовились к рассвету, даже кузнечики исчезли, словно их тут никогда и не было. Высоко над головой, повторяя изгибы ущелья, пролетела в сторону города на базар пара голубей — клевать сваленную в груды кукурузу.
Солнце у нас встает быстро. Малиновый сменяется на розовый, его, в свою очередь, прогоняет оранжевый, оттесняет предшествующий в тень, в ямки, занимает главенствующую точку поверхности и стекает вниз, как горячий шоколад по шарику мороженого. Смена идет быстро, волна за волной.
Я любила восходы. Я всегда вставала в полный рост, распрямив спину и широко расставив ноги, опускала руки ладонями вниз, прикасалась ими к малиновому лбу светила и медленно, словно колдунья, поднимала руки. Тут было важно не спешить, поймать шаг солнца — руки приклеивались к диску, и он сам их выталкивал, но со стороны казалось, что взявшийся за ношу поднимает ее.
Руки наливаются свинцом, пальцы начинают мелко дрожать, потому что груз, который они достают из глубокого колодца в цитадели, осилить тяжело. Медленно, очень медленно поднимаются руки, вслед за ними выползает, как примагниченный к ним растущий на глазах полукруг. Попав из холода подземелья на чистый воздух, солнце начинает накаляться — вот оно уже оранжевое, как апельсин, руки держат его теперь с боков, словно это баскетбольный мяч. Руки устали, но нельзя выказать дрожь. Дрожь поселяется внутри меня, потому что подъем, мной сотворенный, — чудо, и я горда тем, что не сдалась: вбиты в землю мои ноги, как башни, руки медленно расходятся, отпускают круг. И вот он выкатывает весь и стремительно желтеет, солнце теперь — лимон на слегка подрагивающей ветке. Остается легонько поддать ему снизу, как шлепнуть по попке ребенка, и оно само начинает шествие, уменьшаясь в размере. Кожа уже чувствует его жар, еще не самый жестокий, но согревающий, как жар открытого огня. Через час это будет жар тандыра, где пекут лепешки, едва выносимый, прожигающий до костей, если стоять без движения. Еще через час-полтора начнется пекло, воздух задрожит, марево закроет горы, а в далеком и бездонном небе будет яриться маленький блин. Если посмотреть на него, прищурив глаза, он тут же превращается в раскаленный крест.
Я снова в который раз вытянула солнце, пустила его в вышину. Руки затекли, пальцы онемели, я принялась сжимать и разжимать их. Пора было возвращаться на раскоп — наши с рассветом начинали работу. И тут раздался вопль и повторился снова. Он несся из ущелья. Я посмотрела вниз.
Это был обычный ишак, каких десятки в загородке на базаре, где они стоят, поджидая хозяев. На нем сидел бабай — дедушка-дехканин, два хурджина — плотно набитые чересседельные мешки, соединенные крепкой тканью, — свешивались с боков животного. Пальцем правой ноги бабай постукивал ишака по шее, чуть пониже поднятого трубой уха. Ишак шел медленно, словно вез тонну груза. Он вдруг вытянул губы, обнажил синие десны с крепкими зубами, мотнул головой и издал свой икающий вопль. Эхо покидало его по ущелью и вытолкнуло ввысь, к макушке кухендиза, где его приняла ослица. Ей он и посылался, этот крик отчаянья. Ослица скосила испуганный глаз вниз, отвесная круча защищала ее. От вторжения со стороны ущелья цитадель была неприступна даже для распаленного ишака, привыкшего лазать по горам. Но его трубный голос напугал ослицу, она дернула головой и понеслась вскачь, прочь от края, забыв, что прикована. Цепь чуть не сбила ее с ног, рванула назад, но она уже потеряла разум. С упрямством, свойственным этим животным, ослица рвалась и рвалась вперед, казалось, она снова и снова кидается на незримого противника, пытаясь пробить его низко опущенным лбом, так сшибают ворота тупые бараны. Пена летела с нее клочьями, мне показалось, что ветер донес до меня запах ее страха. Ишак завопил истошно и уже кричал, не останавливаясь. Вторя ему полной ужаса гортанью, заорала она, будто ее терзали своими когтями безжалостные ночные дивы.
Ишак меж тем врос в землю, странно расставил ноги, как у школьного физкультурного коня, задрал голову вверх и перешел на рев, в котором слились боль и дикая животная страсть. Глаза его помутнели и налились кровью. Бабай молча слез на землю, снял хурджины, положил их в тени кухендизова навеса, сел, скрестив ноги, вынул из-за пояса тыквинку с насваем, бросил щепотку под язык и остекленел. Он отплыл в другое измерение — покой читался на его лице: мышцы скул расслабились, веки отяжелели и почти накрыли глаза, оставив для связи с этим сумасшедшим миром две узенькие щелочки.
Ишак продолжал орать, но не двигался с места, из недр его живота выросла отвратительная труба и впилась в землю, как пятая нога. Диких ишаков панически боятся даже кобылицы — ослиный член превосходит все мыслимые животные размеры, а похотливость их стала притчей во языцех. Почуяв созревшую для любви кобылу или ишачиху, самец будет бежать за ней до тех пор, пока не совокупится и не изольет свою страсть. Кобылиц иногда спасают длинные ноги, но сила этого маленького животного безмерна, он может преследовать несчастную часами и просто загоняет ее и берет измором.
Осел — символ не только трудолюбия и упрямства, но и похоти. На одной из фресок с раскопа был изображен осел с возбужденным членом и танцующая перед ним красавица-согдийка. Ако Боря, большой любитель скабрезностей, рассказывал нам древнюю сказку о похотливой царевне, черных рабах, горном осле и мудром правителе, велевшем принародно казнить распоясавшуюся блудницу.
Я стояла у края пропасти — зрелище притягивало и отталкивало одновременно, первый раз я видела это, и почему-то мне было жалко не рвущуюся на цепи истеричку, а умирающего на моих глазах ишака. Он уже сорвал голос и хрипел, весь в мыле, ноги мелко дрожали, как мука на сите. Наконец он всхлипнул, пятая нога повисла как кишка и медленно втянулась в живот. Чудовище на глазах превратилось в милую животину. Ослик стоял, обреченно составив ноги, что твой пенсионер в очереди за хлопковым маслом — одна бутылка в руки, — судороги еще бродили по мышцам, слюна капала с губ, уши повисли драными лопухами, но теперь он был покорен и безволен. Унялась разом, как будто шепнули ей: “Отомри!”, ишачиха и спокойно принялась жевать сухую траву. В сторону ущелья она больше не смотрела.
Из тайн небытия вернулся бабай, выплюнул с жирной черной слюной отработанное зелье, вытер рот краем халата, поднялся с кряхтеньем, навалил на осла набитые товаром хурджины, взгромоздился ему на спину, выставил правую ногу и большим пальцем потыкал животное в шею чуть пониже правого уха. Ослик сделал шаг и двинулся в сторону базара. Я проводила их взглядом, повернулась в сторону раскопов — на высоком отвале стоял ако Ахрор. Похоже, он стоял там давно, но природная деликатность не позволила ему спуститься ко мне. Он улыбался, как мальчишка.
— Вера, иди сюда.
Я поднялась на отвал. Он легко коснулся моего плеча рукой, указывая направление, но я вдруг прильнула к нему, обхватила руками за талию, прижалась к его груди. Он погладил меня по голове, сказал: “Вера, ты мне как дочь, я твоего папу любил”.
Мне стало хорошо и покойно, я засмеялась, счастливая, и он засмеялся в ответ.
6
В тот вечер, когда я пришла домой, у нас оказались гости — приехали из Курган-Тюбе мамин брат с женой — дядя Костя и тетя Рая. Дядя Костя был строитель — он работал сначала на Кайрак-Кумской ГЭС, а затем переехал в Курган-Тюбе, где возводил на реке Вахш плотину, и остался в этом городе. Дядя Костя был членом партии и служил небольшим начальником, а тетя Рая работала бухгалтером на цементном заводе. Они приехали повидаться. Дядя Костя объявил мамин день рождения, хотя он уже месяц как прошел. На столе стояли коньяк и шампанское, тетя Рая навезла сладостей, а мама испекла кулебяку с капустой, и во дворе нажарили шашлыков.
Я запомнила это потому, что такие пиры у нас случались редко — только когда наезжали мамины братья. Другой брат, дядя Степа, жил в Душанбе и в тот раз приехать не смог, он служил в штабе погранвойск, и отлучиться ему, даже на день рождения сестры, было очень сложно. Пировали во дворе под яблоней, потом дядя Костя вытащил старую радиолу, и мы слушали пластинки. Я поедала тетины конфеты, а она не могла оторваться от маминого айвового варенья, съела, наверное, полкило, и мама дала потом им в дорогу трехлитровую банку. Было весело, взрослые выпили, но в нашей семье не полагалось напиваться: ополовиненная бутылка коньяка долго стояла в шкафу на кухне, а куда она делась, не помню, помню, что долго стояла и стекло покрылось пылью.