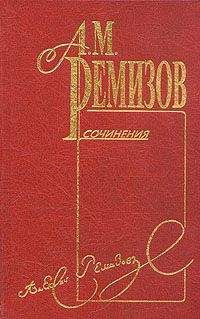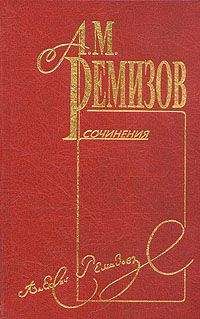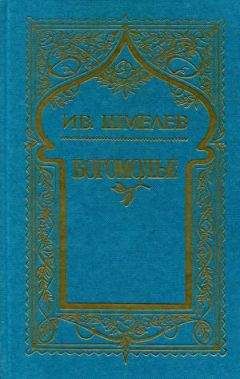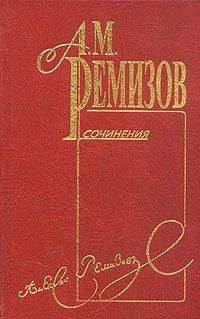Алексей Ремизов - Том 10. Петербургский буерак
6 «Ода»*
«Оду» Набокова я слушал в Медоне у Маритена: под рояль исполнял автор. Голос – ведро. А на дворе шел дождик. И все сливалось, барабаня, в ушат.
«Ода» со сцены: под гул из темноты высвечивают звезды, стальные треугольники, параллелограммы, ныряя сквозь, сигает гипотенузою профессор, и из сверкающего гула я слышу голос: Ломоносов –
Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень…1
«Русский язык самый звучный, речь с героическим звоном».
Богатый – широта, человечность, теплое дыхание степей.
«Природа ему даровала все изобилие и сладость языка еллинского и всю важность и сановитость латинского, всякородное богатство и пространство».
– Русский язык – живость и бодрость.
Лучи от нас склонились прочь,
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна.
7 «Весна Священная»*
Метро «Арз-е-Метье».
Когда при входе мне простукивали билет, я заметил на скамейке дядя и племянница ждут поезда. Так почему-то сказалось: «дядя и племянница» – или потому, как наставительно он говорил ей «уча», а она внимательно слушала родственные наставления уму-разуму. Потом, с сердцем оборвав, замолчал.
И что-то случилось: то ли жара, а было очень жарко, дышать нечем, но когда я, торопясь к воображаемому хвосту поезда – вот-вот подойдет! – поравнялся с их скамейкой, дядя облапил племянницу. Она сначала скорчилась вся и совсем неожиданно поднялась, не сопротивляясь.
На ней было голубое – упругое и горячо – а в ее глазах, вот от этого взгляда я невольно, да и не я один, все мы, спешившие к хвосту уже стучавшего поезда, приостановились.
Дядя не мог удержаться и шарша лапой по голубому, давя это упругое и горячее, и глаза его или там, где у него недавно еще переплетались колючки, были теперь задернуты мутной пленкой, он ничего не видел и не замечал, что все это происходит открыто – на людях.
И тут я разглядел ее взгляд, приковавший меня. В ее глазах я прочитал: «пробуждение» – оно без слов передавало ее острое чувство, ей незнакомое, ни с чем не сравнить. И она не сопротивлялась.
Поезд подходил. И все, кто стояли, как и я, глазея, бросились к вагонам. Я обогнал каких-то и по их лицам заметил, что они только стараются не показать, но они готовы поменяться местами: голубое обожгло.
И потом в поезде оно плыло под надрывавший стук. И никто не смотрел друг на друга: глаза у всех были залеплены голубым.
И я вдруг вспомнил:
«Да это первоцвет – так зацветает подснежник – поцелуй земли и неба весны Священной!»
8 «Аполлон» и «Блудный сын»*
В последний и прощальный: «вознесение» – Аполлон Стравинского и «страдания» – Блудный сынПрокофьева.
После торжественного «Аполлона», поднявшийся в тонком облаке на небеса, Лифарь падает на землю и в отчаянии загрызает землю.
Музыка «Блудного сына» всрыв и всхват. Кровь и кости – живой сумбур.
В памяти: склещившиеся задами двумордые, снуя, проскакивают перед заблудным Лифарем – беда, от которой не скроешься, неминучая.
«Аполлон» и «Блудный сын» – апофеоз Лифаря.
Из ложи балкона озабоченно В. Ф. Нувель, мало ему глаз, высматривает носом – спутник Дягилева, добрая швейцарская нянька. – Да его нет, ушел.
В буфете своеглазый выкавырдачньй Пикассо. А за «отдельным столиком» живой светящийся камертон П. П. Сувчинский, мельничный добрый людоед М. Ф. Ларионов, – четвертьтонный Пуликане Б. Ф. Шлецер, инструментальный А. С. Лурье – свирепо «пили горькую» вприхлёб. Гляжу сквозь Пикассо. Лифарь шел на голове по опрокинутым креслам. И кладет мою рукопись в свой непромокаемый потерянный карман.
И это тоже сон?
V
1 Чудесная Россия*
Скудость веры; когда просто непонятным кажется, как это люди могли когда-то затевать многолетние постройки вроде готических соборов; сужение поля зрения – видишь только то, что под носом, а что дальше и глубже – ничего; подавленность воли и робость и поддонная жажда чуда, которое одно лишь способно вывести из пропащего круга безнадежного, забитого, серого существования на земле – это тот мир, в который пришел Толстой (1828–1910) и принес свою зоркость, свое смелое и прямое слово и свою веру в чудесное в этом мире и человеке.
Мысли о жизни и человеке все давно сказаны и их жизнь и действие не в новизне, а в воле, в вере и в огне слова.
Величайшая вера в чудо и безграничное доверие к человеку – к человеческой воле и совести, вот пафос – вера, воля и огонь творчества Толстого. И в этом разгадка, почему люди повлеклись к нему, почему слова его трогают.
Толстовское «непротивление» – это при жесточайшем-то законе жизни беспощадной борьбы, какими средствами все равно, когда Гераклитов бог войны воистину «царь и отец жизни» – какая должна быть вера в чудесное в человеке: человек услышит, почувствует и опустит занесенную руку, а с другой стороны, найдет в себе силы со всей крепостью духа запретить.
И еще Толстовское: остановитесь и прекратите ту жизнь, которая идет на земле, основанная на лжи и насилии – на эксплуатации человека человеком или поощряющая это насилие, и которая создает вещи, не поднимающие дух человека, а отравляющие или отупляющие человека! – какую надо веру в чудесное: человек найдет в себе мужество остановиться и своей волей перевернуть весь уклад жизни, начать новую свободную жизнь.
Эта вера в чудесное покоряет человека, еще не задавленного и не захлебнувшегося, живой дух которого рвется высвободиться из кольца размеренной тягчайшим трудом жизни.
Жизнь для Толстого представлялась большой реальностью, не ограниченной дневными событиями, а уходящей в многогранность сна. Явлению сна Толстой придает большое значение и часто повторяя слова Паскаля: если бы сны шли в последовательности, мы не знали бы, что – сон, что – действительность.
В русской литературе явлению сна всегда отводилось большое место. Гоголь, как Э. Т. А. Гофман, брал сон в чистейшем его существе – повесть «Нос» построена на сне и во сне, или ряд одноименных снов Ивана Федоровича Шпоньки; Достоевский дал образцы «видений»; у Толстого же, как и у Лескова, сон весь в жизни, неразрывно связанный с событиями сегодняшнего дня и еще неизвестного завтра, – и такой вещий сон, обнажающий скрытую судьбу человека, дан им со всей яркостью изобразительности труднейшей многомерности. В «Анне Карениной» сон – вехи, по которым идет повествование; замечательный сон в сказке «О двух стариках»1 и в сказках «Много ли человеку земли нужно»2 и «Чем люди живы».
Расширенная и вглубь и вдаль реальность жизни, где в сегодня смотрится завтра, это – взлет надчеловеческий, это – касание и видение самой судьбы. И этот взлет чудесен и, как вера в чудо, покоряет.
В вере в чудо есть вечная молодость и залог жизни, а вера не только движет горами – побеждает стихию, – а и создает миры.
2 Три письма Горького*
При имени «человек» меня всегда волнует движение человеческого сердца – та душевная сила, выражаемая словами: «чужая вина» и «тайная милостыня».
Это два света, которыми озарена суровая история человечества; без этого света было б холодно, а имя «человек» звучало бы не громче:
– человек человеку бревно1. –
1Взять на душу грех другого человека и нести наказание, как за свое, – о «чужой вине», я в детстве из сказок вычитал. И задумался. И еще узнал я из сказок же, что «в мире ходит грех». А стало быть, так сказалось у меня, закон человеческой жизни «преступление» и всегда кто-то «виноватый», – и вот я, человек, смею и нарушу этот закон жизни, поверну суть жизни: я, ни в чем не виноватый, добровольно беру на себя чужую вину.
От одной этой мысли в моих глазах сыпятся искры.
Как мне хотелось посмотреть на такого человека, – где-то да есть такие, иначе не сказалась бы сказка. Сам я представлялся и не раз в пустяках вольным «грешником», но меня уличали – «врет все»2, и никто мне не верил и не наказывали.
Так оно и прошло бы сказкой, и вдруг, не думая, я увидел такого человека.
В его глазах горела решительная мука, а говорил он твердо, но под каждым его словом тлелась искра. Он признался в убийстве и рассказывал, как все он это сделал этими руками. И когда он подымал руки – моим глазам они светили.