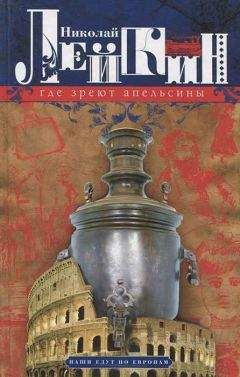Николай Лейкин - В гостях у турок
— Турецкія, турецкія, мадамъ. Бери смѣло. Тутъ счастье на чашкѣ написано.
— Почемъ?
— Всего по двугривенному. Зачѣмъ съ земляковъ запрашивать! Три піастра за чашку дадите — спасибо скажемъ.
Николай Ивановичъ вытащилъ золотой, разсчитывался за чашки и спрашивалъ татарина:
— Почему вы узнали, что мы русскіе?
— А шапка-то русская на головѣ. Да и весь видъ русскій… Совсѣмъ московскій видъ.
— А вотъ мы изъ Петербурга, а не изъ Москвы. Давно здѣсь въ Константинополѣ?
— Да ужъ лѣтъ пять будетъ.
— А отчего изъ Россіи уѣхалъ?
— Да ужъ очень народъ тамъ прижимистъ сталъ. Трудно торговать стало. Вотъ-съ пожалуйте сдачу съ вашего золотого. На піастры да на пары-то привыкли-ли считать? — задалъ вопросъ татаринъ и, когда супруги направились въ ворота мечети, крикнулъ имъ:- Счастливо оставаться, господа!
За каменной оградой. составляющей изъ себя навѣсъ съ каменнымъ поломъ и нѣсколькими спокойно текущими изъ стѣны фонтанчиками, было еще болѣе торговцевъ. Пестрота одеждъ была изумительная. Всѣ кричали и махали руками. Здѣсь уже продавали, кромѣ сластей и посуды, и ярославскія красныя скатерти съ вытканными изреченіями: «не красна изба углами, а красна пирогами», «хлѣбъ соль ѣшь, а правду рѣжь». Скатерти и салфетки висѣли надъ лавками и развѣвались въ воздухѣ, какъ знамена. Между ларьками бродили, ведя за руки ребятъ, турчанки въ пестрыхъ фереджи (нѣчто вродѣ капота мѣшкомъ, безъ таліи) и въ вуаляхъ. Ребятишки держали въ кулакахъ засахаренные фрукты, рахатъ-лукумъ, халву, откусывали отъ кусковъ и мазали ими губы, носъ и щеки. А среди торговцевъ и покупателей бродили тысячи голубей, выскакивая изъ-подъ людскихъ ногъ. Еще большія тысячи голубей сидѣли и ворковали на карнизахъ навѣсовъ, составляющихъ галлерею Караванъ-Сарая и ожидая подачекъ въ видѣ раскрошеннаго хлѣба отъ добровольныхъ дателей.
— Здѣшніе голуби кормятся на счетъ султана. Отъ дворцоваго управленія отпускается очень много мѣшковъ овса смотрителю мечети, но должно-быть очень немного попадаетъ здѣшняго голубямъ, разсказывалъ супругамъ Нюренбергъ. — Вы посмотрите, какого они голоднаго звѣри. Протяните вашего рука — и они тотчасъ сядутъ на руку, думая, что вы даете имъ маленькаго крошка. Два раза въ день выходитъ смотритель къ голубямъ и выноситъ маленькаго ящикъ съ овсомъ, а получаетъ для этого дѣла цѣлаго мѣшокъ овса. Только отъ публики они и питаются, а то улетѣли-бы. Протяните рука, мадамъ, протяните.
— Зачѣмъ буду ихъ обманывать? Вы мнѣ лучше купите булку, и я съ крошками имъ протяну, сказала Глафира Семеновна.
Нюренбергъ сбѣгалъ за хлѣбомъ. Глафира Семеновна раскрошила его, раскидала, протянула руку съ крошками и цѣлое громадное стадо голубей слетѣло съ карнизовъ и окружило ее. Они садились къ ней на руки, на плечи, на голову.
— Видите, какъ они голодны, указывалъ на голубей Нюренбергъ. — Но за то смотритель, турецкаго попъ — о, какого онъ сытаго и толстаго человѣкъ!
— Ну, что-жъ, больше нечего здѣсь смотрѣть? спрашивалъ его Николай Ивановичъ.
— Нечего, нечего, эфендимъ. Извольте выходить за ворота. Сейчасъ поѣдемъ въ знаменитаго Ая-Софію.
Супруги вышли за ворота. Чалма изъ-за ларька съ посудой кричала имъ:
— Прощайте, ваше сіятельство! Вернетесь въ Русскую землю, такъ кланяйтесь тамъ нашимъ казанскимъ и касимовскимъ землякамъ.
При этомъ татаринъ привѣтливо улыбался и по-турецки кланялся, прикладывая ладонь руки ко лбу.
LXXI
— А вотъ и знаменитаго Ая-Софія! проговорилъ съ козелъ Нюренбергъ, когда экипажъ супруговъ Ивановыхъ вынырнулъ изъ узенькаго переулка на площадь.
Ивановы взглянули и увидѣли передъ собой что-то колоссальное, съ плоскимъ византійскимъ, придавленнымъ куполомъ и окруженное самыми разнообразными, облупившимися каменными пристройками, которыя сидѣли на немъ, какъ громадныя бородавки. Къ этимъ пристройкамъ, прижимаясь, ютились другія, болѣе мелкія пристройки. Въ облупленныхъ мѣстахъ виднѣлся красный кирпичъ, и самъ уже начинающій осыпаться. А изъ мелкихъ пристроекъ выставились и уперлись въ небо четыре остроконечные круглые минарета, какъ-бы сторожащіе всю эту массу прижавшихся другъ къ другу построекъ. На первый взглядъ представлялась какая-то безформенная каменная громада, даже и не похожая на храмъ. Виднѣлась далеко не презентабельная рѣшетка, окружающая всѣ зданія и пристройки.
— Это-то знаменитая Софія? вырвалось у Глафиры Семеновны. — Не нахожу въ ней ничего особеннаго. Чего-же кричатъ-то такъ объ ней? Софія, Софія…
— О, мадамъ, она испорчена пристройками, отвѣчалъ Нюренбергъ. — Это, кто изъ султановъ не прикладывалъ сюда своего рука! Одинъ — фонтанъ выстроилъ, другаго — минареты пристроилъ, третьяго — прилѣпилъ маленькаго кіоскъ, четвертаго — тоже… Всѣ, всѣ хотѣли быть строители. Вотъ эти облупившагося стѣны, что вы видите, были пристроены, чтобы мечеть не упала. Показалось при какого-то султана, что она должна упасть, ну, и выстроили глупаго подпорки. Но посмотрите Ая-Софія внутри! Ахъ! Одного американскаго архитекторъ упалъ въ обморокъ, когда вошелъ въ Ая-Софія. Да-съ… Упалъ въ обморокъ, а потомъ сошелъ съ ума. Ну, да вы сейчасъ увидите.
— Николай Ивановичъ, какъ твое впечатлѣніе? обратилась Глафира Семеновна къ мужу.
— Да дѣйствительно, какъ будто того… Не то на городъ съ рѣки смотришь, не то… Но отчего на куполѣ луны нѣтъ? Я гдѣ-то читалъ или слышалъ, что турки какъ взяли Константинополь, сейчасъ-же крестъ замѣнили луной, а тутъ ни креста, ни луны, а только одинъ шпиль. Да… Софію я себѣ совсѣмъ иначе воображалъ!
— А вотъ сейчасъ внутри вы ее увидите. Увидите и какъ каменнаго статуя остановитесь, про говорилъ Нюренбергъ. — Войдемъ мы въ нее съ боковаго входъ. Главнаго входъ запертъ, прибавилъ онъ.
Лошади свернули опять въ какой-то переулокъ съ убійственной мостовой и ветхими, убогими домишками и остановились около воротъ въ полуразрушенной оградѣ. Отъ воротъ ко входу въ храмъ вела покатая дорожка, вымощенная растрескавшимися и осѣвшими плитами. Супруги вышли изъ экипажа. Къ нимъ подскочилъ старикъ въ оборванной курткѣ и замасленной фескѣ, продающій въ корзинкѣ вареную кукурузу и четки, и сталъ предлагать купить эти четки, моргая красными воспаленными глазами и кланяясь. Сидѣли двое нищихъ, поджавъ подъ себя ноги, темнолицые, морщинистые, въ чалмахъ изъ тряпицъ, протягивали мѣдныя чашечки и тоже кланялись, прикладывая руки ко лбу. Одинъ былъ слѣпой, съ страшными бѣльмами, другой безъ руки по локоть. Нищіе были настолько жалки, что Глафира Семеновна остановилась и подала имъ по серебряному піастру. Николай Ивановичъ купилъ у старика пару четокъ и надѣлъ ихъ на руку.
— Какъ настоящіе правовѣрные войдемъ… съ чктвами… — сказалъ онъ женѣ.
Вотъ и входъ, завѣшанный кожаной занавѣской. Супруги проникли въ притворъ и на нихъ пахнуло холодомъ подвала. На каменныхъ плитахъ стояли цѣлые ряды соломенныхъ туфель безъ задковъ, а около нихъ съ небольшимъ деревяннымъ ларчикомъ сидѣлъ на коврѣ старикъ съ сѣдой бородой, въ бѣлой чалмѣ съ зеленой прослойкой и въ халатѣ. Тутъ-же вертѣлся черномазый мальчикъ въ фескѣ. Нюренбергъ снялъ съ себя резиновыя калоши, предложилъ то же сдѣлать Глафирѣ Семеновнѣ, и сдалъ ихъ мальчику. Такъ Николай Ивановичъ былъ безъ калошъ, то ему мальчикъ подвинулъ туфли.
— Извольте, ефендимъ, надѣвать знаменитаго турецкаго башмаки и ходить въ нихъ, улыбнулся ему Нюренбергъ. — Этого законъ шейхъ-уль-исламъ требуетъ. Сами виноваты, что не надѣли своего калоши и теперь вамъ снять нечего. А вотъ мы съ вашего барыня безъ туфель пойдемъ.
Сѣдобородый старикъ открылъ уже шкатулку, вынулъ оттуда книжечку и вырвалъ изъ нея билетъ. Нюренбергъ заговорилъ съ нимъ по-турецки и подалъ ему золотую монету. Старику слѣдовало получить за билетъ серебряный меджидіе и онъ сталъ сдавать сдачи съ золотого, вытаскивалъ серебряныя и мѣдныя деньги изъ шкатулки, раскладывалъ ихъ на ладони, считалъ и наконецъ подалъ Нюренбергу. Сдачу принялся считать Нюренбергъ и не досчитался чего-то. Опять мѣдныя и серебряныя деньги перешли къ старику. Тотъ сосчиталъ ихъ, прибавилъ монетку и возвратилъ Нюренбергу. Нюренбергъ опять сосчиталъ и потребовалъ еще. Старикъ не давалъ. Завязался споръ. Начали переругиваться. Старикъ считалъ уже что-то по пальцамъ. — Послушайте, да скоро-ли вы кончите! крикнулъ на нихъ Николай Ивановичъ, которому ужъ надоѣло стоять и шмыгать соломенными туфлями, которыя сваливались съ ногъ. Нюренбергъ плюнулъ и сказалъ:
— Обсчиталъ-таки, стараго турецкаго морда, на два съ половиной піастра! Охъ, попы, попы! Самаго корыстнаго народъ!
— Да развѣ это попъ? — задала вопросъ Глафира Семеновна.
— Ну, не попъ, такъ какого нибудь духовнаго лицо: турецкаго дьячокъ, турецкаго канторъ. Пожалуйте, мадамъ.
И Нюренбергъ ввелъ супруговъ въ лѣвую боковую галлерею храма.