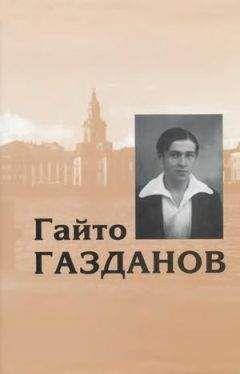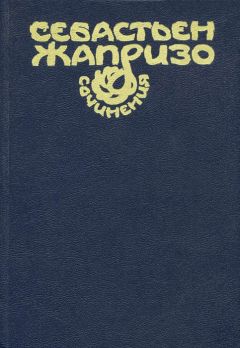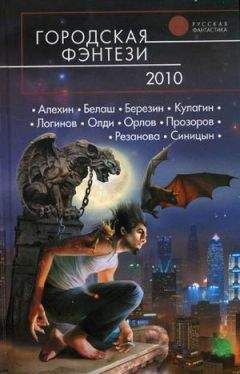Гайто Газданов - Том 3. Романы. Рассказы. Критика
– Где бы ты ни был и когда бы это ни произошло, не забывай одного: как только ты почувствуешь себя достаточно сильным, как только ясность твоего рассудка не будет ничем больше омрачена, дай мне знать. Я брошу все и приеду к тебе.
Я бы сказал ей, что я вспоминал эти слова в тюрьме в те первые дни моего заключения, когда я еще не знал, стану ли я вновь свободным человеком.
Я бы сказал ей, что у нее было неузнаваемое, искаженное лицо, когда она заговорила со мной о том, что ждет ребенка, что это смерть, что этого не должно быть, что это будет потом, что ей двадцать лет и перед нами вся жизнь. Этого, я думаю, она не забыла: клиника, стены которой были выкрашены белой масляной краской, маленькая докторша неопределенной национальности, с бегающими глазами, мучительная операция без наркоза и дребезжание такси, на котором я отвез ее домой, в номер гостиницы, ее обмороки во время этого переезда и то, как я нес ее из автомобиля до кровати, то, как она держала мою шею руками и как дрожала и билась маленькая жилка под ее коленом. Два месяца после этого я не завтракал и не обедал, питаясь хлебом и молоком и платя долги всем моим товарищам, потому что денег на операцию не было ни у нее, ни у меня. И вечером этого же дня в первом этаже здания, находившегося против ее гостиницы, была свадьба консьержкиной дочери, которая выходила замуж за прыщавого молодого человека в черном костюме, мелкого служащего из бюро похоронных процессий. Окна были отворены, и был виден стол со свадебной снедью, неподвижно-радостное, деревянное лицо невесты и густо рдевшие в электрическом свете прыщи новобрачного. За столом сидели многочисленные родственники, которые время от времени принимались петь в унисон, оскорбительный и фальшивый, какой-то музыкальный мусор. Голоса, однако, становились все более хриплыми, все слабели и наконец умолкли. Катрин заснула, и я просидел в кресле рядом с ней всю ночь. Утром, когда она открыла глаза и увидела меня, она сказала:
– Все это неважно, потому что это кончилось. Ты очень смешной, когда ты небритый.
И потом, в тот день, когда я почувствовал, что меня властно захватывает эта странная болезнь, с которой у меня не было сил бороться, я сказал ей об этом и она смотрела на меня расширенными от удивления глазами. Я сказал, что не считаю себя вправе связывать ее каким-либо обязательством, что я болен и что если бы это было иначе…
И затем, всякий раз, когда моя мысль возвращалась к ней, я заставлял себя думать о другом. Она покинула Латинский квартал, и я знал ее теперешний адрес: она жила на rue de Courcelles, в квартире своей тетки, которая то приезжала, то уезжала, но за которой эта квартира оставалась всегда. Я много раз провожал туда Катрин и много раз ждал ее на улице.
Я не знал, как проходит теперь ее жизнь, о чем она думает и помнит ли она все то, что помнил я об этом времени нашего существования. Я не знал, дрогнет ли ее голос, когда она ответит на первые слова, которые я ей скажу, я не знал даже, продолжает ли она быть такой, какой она была на концерте Крейслера и в своем номере гостиницы, – и вспоминала ли она за это время обо мне. Ей было теперь двадцать три года, и было бы, конечно, неправдоподобно, если бы она все это время ждала моего проблематического возвращения. Ее обещание так же принадлежало прошлому, как то, что составляло ее жизнь три года тому назад, и я не вправе был бы ее обвинять, если бы оказалось, что она не может его сдержать. Все это становилось ясно с первой минуты размышления. Но это не останавливало меня; и побуждения, заставившие меня сделать эту отчаянную попытку вернуться к Катрин, были слишком повелительны, чтобы им могли помешать эти соображения. Мне казалось, что то множество чувств, которое возникало во мне, когда я думал о ней или когда я ощущал рядом с собой ее присутствие, не могло быть заменено ничем. В том хаотическом мире, которому мне было, в сущности, нечего противопоставить, так как все, что я знал, казалось мне вялым и неубедительным или непостижимо далеким, ее существование возникало передо мной, как единственный воплощенный мираж. Даже по внешности она напоминала мне иногда, особенно вечером или в сумерках, легкий призрак, идущий рядом со мной. У нее были белые волосы, сквозь которые проходил свет, бледное лицо и бледные губы, тусклые синие глаза и тело пятнадцатилетней девочки. Но ее жизнь, заполнявшая мое воображение, перерастала его и возникала там, где все мне казалось чуждым или враждебным.
И теперь, обретя эту двойную свободу, непосредственную потому, что меня выпустили из тюрьмы, и душевную оттого, что это потрясение как будто излечило меня, может быть, окончательно, – я чувствовал вокруг себя пустоту, и мне казалось, что никто, кроме Катрин, не заслонит ее от меня. Я искал у нее защиты, я очень устал от одиночества и отчаяния, и я думал, что теперь, почему-то именно теперь, я заслужил право на другую жизнь. И, возвращаясь домой, я решил завтра же поехать на rue de Courcelles.
В десять часов утра я был уже там. Я любил этот квартал – тихие улицы и высокие дома темного цвета, с большими окнами, за которыми текла такая размеренная жизнь, где были соображения о доходах, об акциях, о подходящей партии, о наследстве; это был упорный девятнадцатый век, архаический и наивный, медленное умирание которого продолжалось уже много десятков лет. В доме, где жила тетка Катрин, был лифт стариннейшей системы, поднимавшийся на нескольких ремнях, и когда я ехал в нем на четвертый этаж, он как-то слегка дымил, и мне даже показалось, что в этом дыму проскочило несколько искр. Я позвонил; мне отворила полная женщина с седыми волосами, спросившая, что мне нужно. Она говорила по-французски свободно, но с акцентом. Я сказал, что хотел бы видеть Катрин.
– Катрин? – повторила она. – Катрин уехала в Австралию год тому назад.
– Ах да, в Австралию… – сказал я машинально.
– Она уехала тотчас же после свадьбы.
– Она вышла замуж?
Вероятно, в моем голосе была какая-то неофициальная и, в сущности, ничем не оправданная по отношению к этой женщине, которую я видел первый раз в жизни, интонация, потому что она сказала:
– Войдите, пожалуйста, и садитесь. Простите, как ваша фамилия?
Я ответил.
– Да, да. Катрин мне о вас говорила. Бели бы вы пришли на год раньше, вы бы застали ее еще не замужем.
– Да, я понимаю, – сказал я. – К сожалению, я пришел на год позже.
У нее была очень особенная и располагающая к себе улыбка – и мне показалось, что я знаю эту пожилую даму очень давно. Она прямо посмотрела на меня и спросила:
– Это вы сумасшедший?
– Да, – сказал я, растерявшись. – То есть, это не совсем так, я не сумасшедший…
– Вы меня простите, – сказала она, – я значительно старше вас, и, знаете, у меня впечатление, что вы все это выдумали. Это все оттого, что вы много читаете, недостаточно едите и мало думаете о самом главном в вашем возрасте, о любви.
Я понял из этих ее слов, что Катрин, по-видимому, рассказала ей обо мне довольно много. Я ответил:
– Разрешите вам сказать, что это не очень научный диагноз.
– Он, может быть, не научный, но мне кажется, что он правильный.
Я помолчал, потом спросил:
– За кого Катрин вышла замуж?
– За одного английского художника. Этот портрет, – сказала она, поднимая глаза на стену, – он рисовал, это, кажется, его первая жена.
На картине была изображена неправдоподобная женщина конфетной красоты, в красном бархатном платье, картина была похожа на плохую олеографию. Как Катрин могла этого не видеть?
Я встал и стал прощаться. Она протянула мне руку и попросила меня оставить ей на всякий случай мой адрес.
Лестница была широкая, на ней лежал толстый ковер, и она была не похожа на ту, которая была в Латинском квартале, в гостинице Катрин. Но я подумал, что опять беззвучно спускаюсь из мира, в котором она жила, в ту призрачную пропасть, из которой мне так трудно было уйти.
* * *Проходили дни, недели и месяцы. Я давно уже уехал из Латинского квартала, деревья на парижских улицах зазеленели, распустились, потом покрылись летней пылью, потом их листья осыпались и наступил октябрь. На рассвете холодной ночи был казнен Амар, я прочел об этом в газетах, где было рассказано, что он выпил рому и выкурил папиросу перед тем, как подняться на гильотину. Потом он обвел глазами людей, окружавших его.
– Du courage![42] – сказал ему адвокат. Амар хотел что-то произнести, но не мог, и только в последнюю секунду, в тот условнейший промежуток времени, когда он еще теоретически продолжал существовать, он крикнул высоким голосом – pitie![43]
Это было то слово, которое ему удалось наконец вспомнить и которое он, вероятно, хотел сказать уже несколько минут тому назад. Но оно, конечно, не имело теперь смысла – так же, впрочем, как никакое другое слово и никакое другое понятие. «C'est ainsi qu'il а paye sa dette a la society»[44]. Так кончался отчет об его казни. И в последний раз я подумал о том, что ему, собственно, дало общество: случайное рождение в нищете и пьянстве, голодное детство, работа на бойнях, туберкулез, вялые тела нескольких проституток, потом Лида и убогий соблазн богатства, потом убийство, неотделимое от страшной бедности его воображения, и потом, наконец, после тюрьмы – холодный воздух осеннего рассвета, мостки гильотины, немного рома и одна папироса перед смертью. Такой, каким он был, он, вероятно, не мог прожить другой жизни, и она казалась логически законченной. Если бы он не совершил убийства, он умер бы от чахотки, и в этом его адвокат был, конечно, прав. Одно было очевидно – что в этом мире ему больше не было места, так, точно огромные пространства земли вдруг стали для него тесны.