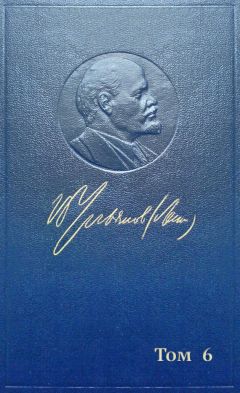Николай Лесков - Том 3
— Ах, старичок прелестный! — воскликнул растроганный дьякон Ахилла, хлопнув по плечу Николая Афанасьевича.
— Да-с, — продолжал, вытерев себе ротик, карлик. — А пришел-то я в себя уж через девять дней, потому что горячка у меня сделалась. Осматриваюсь и вижу, госпожа сидят у моего изголовья и говорят: «Ох, прости ты меня Христа ради, Николаша: чуть я тебя, сумасшедшая, не убила!» Так вот-с она какой великан-то была, госпожа Плодомасова!
— Ах ты, старичок прелестный! — опять воскликнул дьякон Ахилла, схватив Николая Афанасьевича в шутку за пуговичку фрака и как бы оторвав ее.
Карлик молча попробовал эту пуговицу и, удостоверившись, что она цела и на своем месте, сказал:
— Да-с, да, ничтожный человек, а заботились обо мне, доверяли; даже скорби свои иногда открывали, когда в разлуке по Алексее Никитиче скорбели. Получат, бывало, письмо, сейчас сначала скоро-скоро пошептом его пробежат, а потом и всё вслух читают. Оне сидят читают, а я перед ними стою, чулок вяжу да слушаю. Прочитаем и в разговор сейчас вступим:
«Теперь его в офицеры, — бывало, скажут, — должно быть, скоро произведут».
А я говорю:
«Уж по ранжиру, матушка, непременно произведут».
«Тогда, — рассуждают, — как ты думаешь: ему ведь больше надо будет денег посылать?»
«А как же, — отвечаю, — матушка? обойтись без того никак нельзя, непременно тогда надо больше».
«То-то, — скажут, — нам ведь здесь деньги все равно и не нужны».
«Да нам, мол, они на что же, матушка, нужны!»
Тут Николай Афанасьевич щелкнул пальчиками и, привздохнув, с озабоченнейшей миной проговорил:
— А сестрица Марья Афанасьевна в это время молчат, покойница на них за это сейчас и разгневаются, — сейчас начинают деревянностью попрекать: «Деревяшка ты, скажут, деревяшка! Недаром мне тебя за братом-то твоим без денег в придачу отдали».
Николай Афанасьевич вдруг спохватился, покраснел и, повернувшись к своей тупоумной сестре, проговорил:
— Вы простите меня, сестрица, что я это рассказываю?
— Сказывайте, ничего, сказывайте, — отвечала, водя языком за щекою, Марья Афанасьевна.
— Сестрица, бывало, расплачутся, — продолжал Николай Афанасьевич, — а я ее куда-нибудь в уголок или на лестницу тихонечко с глаз Марфы Андревны выманю и уговорю: «Сестрица, говорю, успокойтесь, пожалейте себя; эта немилость к милости», — потому что я ведь уж, бывало, знаю, что у нее все к милости. И точно, горячее да сплывчивое сердце их сейчас скоро, бывало, и пройдет: «Марья! — бывало, зовут через минутку. — Полно, мать, злиться-то. Чего ты кошкой-то ощетинилась? Иди, сядь здесь, работай». Вы ведь, сестрица, не сердитесь?
— Сказывайте, что ж мне? сказывайте, — отвечала Марья Афанасьевна.
— Да-с; тем, бывало, и кончено. Сестрица возьмут скамеечку, поставят у их ножек и опять начинают вязать. Ну, тут я уж, как это спокойствие водворится, сейчас подхожу к Марфе Андревне, попрошу у них ручку поцеловать и скажу: «Покорно вас, матушка, благодарим!» Сейчас всё даже слезой взволнуются.
«Ты у меня, — говорят, — Николай, нежный. Отчего это только, я понять не могу, отчего она у нас такая деревянная?» — скажут опять на сестрицу. — А я, — продолжал Николай Афанасьевич, улыбнувшись, — я эту речь их сейчас, как секретарь, под сукно, под сукно. «Сестрица! — шепчу, — сестрица, просите скорей ручку поцеловать!»
Марфа Андревна услышат, сейчас и конец. «Сиди уж, мать моя, — скажут сестрице, — не надо мне твоих поцелуев», и пойдем колтыхать спицами в трое рук. Только и слышно, что спицы эти три-ти-ти-ти-три-ти-ти, да мушка ж-ж-жу-ж-жу-ж-жу пролетит. Вот в такой тишине невозмутимой, милостивые государи, в селе Плодомасове жили, и так пятьдесят пять лет вместе прожили.
Глава третья Николай Афанасьевич сконфужен— Ну, а вас же самих с сестрицей на волю Марфа Андревна не отпустила? — спросил судья Дарьянов карлика, когда тот окончил свою повесть и хотел встать.
— На волю? Нет, сударь Валерьян Николаич, меня не отпускали. Сестрица Марья Афанасьевна были приписаны к родительской отпускной, а меня не отпускали, да это ведь и к моей пользе все. Оне, бывало, изволят говорить: «После смерти моей живи где хочешь (потому что оне на меня капитал положили), а пока жива, я тебя на волю не отпущу».
«Да и на что, — говорю, — мне, матушка, она, воля? Меня на ней воробьи заклюют».
— Ах ты, маленький этакой! — воскликнул в умилении Ахилла.
— Да-с, конечно-с, заклюют, — подтвердил Николай Афанасьевич. — Вот у нас дворецкий Глеб Степанович, на волю их отпустили, они гостиницу открыли и занялись винцом, а теперь по гостиному двору ходят да купцам с конфетных билетиков стихи читают. Ничего прекрасного в этом нет.
— А он ведь, Николай-то Афанасьевич-то, он у нее во всем правая рука был. Крепостной, да не раб, а больше друг и наперсник, — отозвался Туберозов, желая возвысить этим отзывом значение Николая Афанасьевича и снова наладить разговор на желанную тему.
Служил, батушка, отец протоиерей, по разумению своему угождал и берег их. В Москву и в Питер покойница езжали, никогда горничных с собою не брали. Терпеть женской прислуги в дороге не могли. Изволят, бывало, говорить: «Все эти Милитрисы Кирбитьевны квохчут да в гостиницах по коридорам расхаживают, а Николаша, говорят, у меня, как заяц, в углу сидит». Оне ведь меня за мужчину вовсе не почитали, а все, бывало, заяц. Николай Афанасьевич рассмеялся и добавил:
— Да и взаправду, какой же я уж мужчина, когда на меня, извините, ни сапожков и никакого мужского платья готового нельзя купить, — не придется. Это и точно, их слово справедливое было, что я заяц.
— Но не совсем же она тебя всегда считала зайцем, когда хотела женить, — отозвался городничий Порохонцев.
— Да, это такое их господское желание, батушка Воин Васильевич, было, — проговорил, сконфузясь, карлик. — Было, сударь, — добавил он, все понижая голос, — было.
— Неужто, Николай Афанасьевич, было, — откликнулось разом несколько голосов.
Николай Афанасьевич потупил стыдливо взор себе в колени и шепотом проронил:
— Не могу солгать, действительно такое дело было.
Все, кто здесь были, разом пристали к карлику:
— Голубчик, Николай Афанасьевич, расскажите про это.
— Ах, господа, про что тут рассказывать, — отговаривался, краснея и отмахиваясь от просьб руками, Николай Афанасьевич.
Его просили неотступно, дамы его брали за руки, целовали его в лоб; он ловил на лету прикасавшиеся к нему дамские руки и целовал их, но все-таки отказывался от рассказа, находя его и долгим и незанимательным. Но вот что-то вдруг неожиданно стукнуло об пол; именинница, стоявшая в эту минуту пред креслом карлика, в испуге посторонилась, и глазам Николая Афанасьевича представился коленопреклоненный, с воздетыми кверху, руками дьякон Ахилла.
— Душечка, душка, душанчик, — мотая головой, выбивал Ахилла.
— Что вы? Что вы это, отец дьякон? — заговорил, быстро подскочив к дьякону, Николай Афанасьевич.
Стоя на своих ножках, карлик был на вершок ниже коленопреклоненного Ахиллы, который, обняв его своими руками, крепко целовал и между поцелуями барабанил:
— Никола… Николаша… Николавра… если ты… не расскажешь, как тебя женить хотели… то ты просто не друг кесарю*!
— Скажу, скажу, все расскажу, только поднимайтесь, отец дьякон.
Ахилла встал и, обмахнув с рясы пыль, самодовольно возгласил:
— А то говорят: не расскажет! С чего так, не расскажет? Я сказал: выпрошу, вот и выпросил. Теперь, господа, опять по местам, и чтоб тихо, а вы, хозяйка, велите Николавре стакан воды с червонным вином, как в домах подают.
Все уселись, Николаю Афанасьевичу подали стакан воды, в который он сам опустил несколько капель красного вина и начал:
— Это, господа, было вскоре после французского замирения*, как я со в бозе почивающим государем императором разговаривал.
— Вы с государем разговаривали? — перебили рассказчика несколько голосов.
— А как бы вы изволили полагать? — отвечал с тихой улыбкой карлик. — С самим императором Александром Первым, имел честь отвечать ему.
— Ха-ха-ха! Вот, бог меня убей, шельма какая у нас этот Николавра! — взвыл вдруг от удовольствия дьякон Ахилла и, хлопнув себя ладонями по бедрам, добавил: — Глядите на него, а он, клопштос*, с царем разговаривал!
— Сиди, дьякон, сиди! — спокойно и внушительно произнес Туберозов.
Ахилла показал руками, что он более ничего не скажет, и сел.
Рассказ начался.
Глава четвертая Николай Афанасьевич во всей славе своей— Это как будто от разговора моего с государем императором даже и начало имело, — спокойно заговорил Николай Афанасьевич. — Госпожа моя, Марфа Андревна, имела желание быть в Москве, когда туда ждали императора после победы над Наполеоном*. Разумеется, и я, по их воле, при них находился. Оне, покойница, тогда уже были в больших летах и, по нездоровью своему, стали несколько стропотны, гневливы и обидчивы. Молодым господам в доме у нас было скучно, и покойница это видели и много на это досадовали. Себе этого ничего, бывало, не приписывают, а больше всех на Алексея Никитича сердились, — всё полагали, что не так, верно, у них в доме порядок устроен, чтобы всем весело было, и что чрез то их все забывают. Вот Алексей Никитич и достали маменьке приглашение на бал, на который государя ожидали. Марфа Андревна сейчас Алексею Никитичу ручку пожаловали и не скрыли от меня, что это им очень большое удовольствие доставило. Сделали оне себе наряд бесценный и мне французу-портному заказали синий фрак аглицкого сукна с золотыми пуговицами, панталоны — сударыни, простите! — жилет и галстук белые; манишку с кружевными гофреями* и серебряные пряжки на башмаках, сорок два рубля заплатили. Алексей Никитич для маменькиного удовольствия так упросили, чтоб и меня туда можно было на бал взять. Приказано было метрдотелю, чтобы ввести меня в оранжерею при доме и напротив самого зала, куда государь взойдет, в углу поставить.