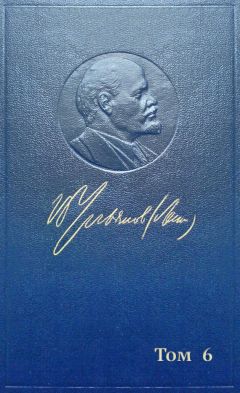Николай Лесков - Том 3
Плодомасова поцеловала расхохотавшегося мальчишку и, бросив его на руки стоявшего перед нею сына, тихо шепнула ему:
— Видишь… у бабки на лежанке в заячьем рукаве доспел!.. Понеси его к образу да благослови.
Оставив ребенка на руках отца, Марфа Андревна кивнула людям и пошла в дальние комнаты переодеваться.
Среди опустелого покоя остались гвардеец Алексей Плодомасов и на его руках дворянин Пармен Туганов. Глядя друг на друга, оба они, казалось, были удивлены, и оба молчали.
Очерк третий
Плодомасовские карлики[43]
У старогородского городничего Порохонцева был именинный пирог, и по этому случаю были гости: два купца из богатых, чиновники и из духовенства: среброкудрый протоиерей Савелий Туберозов, маленький, кроткий, паче всех человек, отец Бенефисов и непомерный дьякон Ахилла. Все, и хозяева и гости, сидели, ели, пили и потом, отпав от стола, зажужжали. В зале стоял шумный говор и ходили густые облака табачного дыма. В это время хозяин случайно глянул в окно и, оборотясь к жене, воскликнул:
— Оля! смотри, мой дружок, тебе бог посылает еще каких-то новых гостей!
Такое восклицание вызвало всеобщее любопытство: все, кто был в комнате, встали с мест, подошли к окнам и остановились, вперя взоры вдаль, на крутой спуск, по которому осторожно сползает, словно трехглавый змей, могучая, рослая тройка больших медно-красных коней. Коренник мнется и тычет ногами, как старый генерал, подходящий, чтобы кого-то распечь: он то скусит губу налево, то скусит направо, то встряхнет головой и опять тычет и тычет; пристяжные вьются и сжимаются, как спутанные; малиновый колокольчик шлепнет колечком в край и снова прилип и молчит; бубенчики глухо рокочут, но без всякого звона. Но вот этот трехглавый змей сполз, показались хребты коней, махнул в воздухе хвост пристяжной из-под ветра; тройка выравнялась и понеслась по мосту, мерно и в такт ударяя подковами о звонкие доски. Показались золоченая дуга с травленою распиской* и большие, бронзой кованные троечные дрожки гитарой. На дрожках рядком, как сидят на козетках, сидели два маленькие существа: одно мужское и одно женское; мужчина был в темно-зеленой камлотовой* шинели и в большом картузе из шляпного волокнистого плюша, а женщина — в масаковом гроденаплевом салопе* с большим бархатным воротником лилового цвета и в чепчике с коричневыми лентами.
— Боже, да это плодомасовские карлики!
— Не может быть!
— Смотрите сами!
— Точно, точно они!
— Да как же: вон Николай-то Афанасьич, глядите, увидал нас и кланяется; а вон и Марья Афанасьевна кивает.
Такие возгласы раздались со всех сторон при виде карликов, и все, словно невесть чему, обрадовались их приезду. Хозяева захлопотали, возобновляя для новых гостей завтрак, а прежние гости внимательно смотрели на двери, в которые должны были показаться маленькие люди. И они, наконец, показались. Впереди шел старичок ростом с небольшого, осьмилетнего мальчика, за ним старушка, немного побольше. Старичок был весь чистота и благообразие: на лице его не было ни желтых пятен, ни морщин, обыкновенно портящих лица карликов; у него была очень пропорциональная фигурка, круглая как шар головка, покрытая совершенно белыми, коротко остриженными волосами, и небольшие коричневые медвежьи глазки. Карлица была лишена приятности брата: она была одутловата, у нее был глуповатый, чувственный рот и тупые глаза.
На карлике Николае Афанасьевиче, несмотря на жаркое, летнее время, были надеты теплые плисовые сапожки, черные панталоны из лохматой байки, желтоватый фланелевый жилет и коричневый фрак с металлическими пуговицами. Белье его было безукоризненной чистоты, и белые, бескровные щечки его туго поддерживал высокий атласный галстук. Карлица была в шелковом зеленом капоте и большом кружевном воротнике городками*.
Николай Афанасьевич, войдя в комнату, вытянул свои ручки по швам, потом приподнес правую руку с картузом к сердцу, шаркнул ножкой об ножку и, направляясь вразвалец прямо к имениннице, проговорил тихим и ровным старческим голоском:
— Господин наш Алексей Никитич Плодомасов и господин Пармен Семеныч Туганов от себя и от супруги своей изволили приказать нам, их слугам, принести вам, сударыня Ольга Арсентьевна, их поздравление. Сестрица, повторите! — отнесся он к стоявшей возле него сестре, и когда та кончила свое поздравление, Николай Афанасьевич шаркнул городничему и продолжал: — А вас, сударь Воин Васильевич, и всю честную компанию, с дорогою именинницей! И затем, сударь, имею честь доложить, что, прислав нас с сестрицей для принесения вам их поздравления, и господин мой и Пармен Семеныч Туганов просят извинения за наше холопье посольство, но сами теперь в своих минутах не вольны и принесут вам в том извинение сегодня вечером.
— Пармен Семеныч будет здесь! — воскликнул городничий.
— Вместе с господином моим Алексеем Никитичем Плодомасовым, проездом в Петербург; просят простить, что заедут к вам в дорожном положении.
В обществе началась суета, пользуясь которою карлик подошел под благословение к большому протопопу Туберозову и тихо проговорил:
— Пармен Семеныч просили вас, отец протоиерей, побывать вечером сюда.
— Скажи, голубчик, буду, — отвечал Туберозов.
Карлик взял благословение у маленького, кроткого паче всех человек отца Захария, потом протянул ручку Ахилле и, улыбнувшись, проговорил:
— Только сделайте милость, сударь, отец дьякон, силы не пробуйте.
— А что, Николай Афанасьич, разве он того… здоров? — пошутил с карликом хозяин.
— Силку свою, сударь, все пробовать любят-с, — отвечал старичок. — Есть над кем — над калечкой силиться!
— А что ваше здоровье, Николай Афанасьич, — пытали карлика дамы, окружая его со всех сторон и пожимая ему ручонки.
— Какое, милостивые мои государыни, здоровье! Смех отвечать: точно поросенок стал; Петровки на дворе*, а я все зябну.
— Зябнете!
— Да как же-с: вот как кролик, весь в мешок, весь в заячий зашит. Да и чему дивиться, прекрасные госпожи, — осьмой десяток лет уж совершил, ненужный человек.
Николая Афанасьевича наперебой засыпали вопросами о различных предметах, усаживали, потчевали всем; он отвечал на все вопросы умно и находчиво, но отказывался от всех угощений, говоря, что давно уже ест мало, и то однажды в сутки.
— Вот сестрица, они покушают, — проговорил он и тотчас же, обратясь к сестре, добавил: — Садитесь, сестрица, кушайте! Когда просят хозяева, чего церемониться? Вы, может быть, без меня не хотите, так позвольте мне, сударыня Ольга Арсентьевна, морковной лачиночки из пирожка на блюдце… Вот так, довольно-с, довольно! Теперь, сестрица, кушайте, а с меня довольно. Меня нынче, государи мои, и кормить-то уж не за что — нитяного чулка, и того вязать не в состоянии. Лучше гораздо сестрицы вязал когда-то, а нынче стану вязать, всё петли спускаю.
— А бывало, Никола, ты славно вязал! — отозвался Туберозов, весь оживившийся и повеселевщий с прибытием карлика.
— Ах, отец Савелий, государь! Время, государь, время. — Карлик улыбнулся и договорил шутя: — Строгости надо мной, государь, не стало; избаловался после смерти моей благодетельницы. Что! хлеб-соль готовые, кров теплый — поел казак да на бок, с того казак и гладок.
Протопоп Туберозов посмотрел в глаза карлику с счастливою улыбкой и сказал:
— Вижу я тебя, Никола, словно милую сказку старую перед собой вижу, с которою умереть бы хотелось.
— А она, батушка (он говорил у вместо ю), она, сказка-то добрая, прежде нас померла.
— А забываешь, Николушка, про госпожу-то свою? Про боярыню-то свою, Марфу Андревну, забываешь? — проговорил, юля около карлика, дьякон Ахилла, которого Николай Афанасьевич не то чтобы не любил, а как бы опасался и остерегался.
— Забывать, сударь отец дьякон, стар, сам к ней, к утешительнице моей, служить на том свете собираюсь, — отвечал карлик очень тихо и неспешно и с легким только полуоборотом в сторону Ахиллы.
— Утешительная, говорят, была старуха, — отнесся безразлично ко всему собранию дьякон.
— Ты это в каком же смысле берешь ее утешительность? — спросил Туберозов.
— Забавная!
Протопоп улыбнулся и махнул рукой, а Николай Афанасьевич поправил Ахиллу, твердо сказав ему:
— Утешительница, сударь, утешительница, а не забавница.
— Что ты ему бесплодно внушаешь, Никола! ты лучше расскажи, как она тебя ожесточила-то, как откуп-то сделала, — посоветовал протопоп.
— Что, отец протопоп, старое это, сударь.
— Наитеплейше это у него выходит, когда он рассказывает, как он ожесточился, — обратился Туберозов к присутствующим.