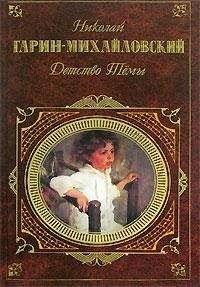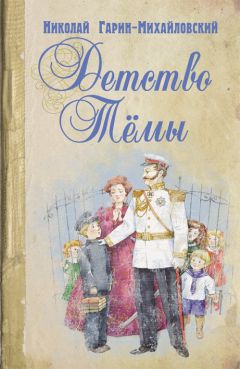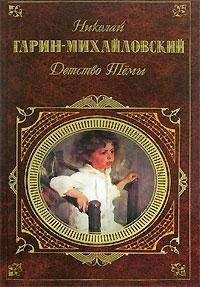Николай Гарин-Михайловский - Том 1. Детство Тёмы. Гимназисты
Карташев напряженно следил за ней глазами все время, пока она читала. Иногда она улыбалась, и тогда он вскакивал и смотрел в журнал: чему именно улыбается мать.
Когда она кончила, он впился в нее глазами. Мать некоторое время молчала и наконец сказала с усмешкой:
— Глупенький ты.
Карташев не ожидал такого отношения. Он покраснел и смутился. Он спросил, стараясь быть равнодушным:
— Тебе не нравится?
Мать недоумевающе пожала плечами:
— Не-ет… ничего…
Какая-то непривычная сухость тона еще тяжелее задела Карташева.
Мать начала читать следующую статью Корнева: «Нечто о художественном».
— У него очень логически развивается мысль, — заметила она мимоходом и опять сосредоточенно погрузилась в чтение.
Кончив, она вскользь окинула взглядом сына и, задумавшись, смотрела в окно. Карташеву казалось, что она думала в это время о том, что Корнев написал прекрасную статью, а он, ее сын, написал бездарную, плохую, и ей стыдно теперь за него. Сердце Карташева тоскливо сжалось. Он сидел смущенный, растерянный и весь был охвачен мыслью, как бы хоть не заметили и не угадали его душевного состояния. Никто ничего не заметил: мать встала и вышла из комнаты. Зина, тоже вдруг потеряв интерес к его журналу, продолжала заниматься. Карташев посидел еще и, незаметно захватив журнал, ушел с ним к себе.
Там он бросил журнал на стол, а сам, улегшись на диване, долго лежал с открытыми неподвижными глазами, заложив руки за голову.
— Ну, что ж, — подавленно произнес он вслух, — не буду больше никогда писать — и конец.
И в гимназии говорили о статьях Корнева, Долбы, Беренди, но о Карташеве все молчали. Он видел это, и больное чувство мучило его каждый раз, когда речь заходила о журнале. Он старался делать равнодушное лицо и давал себе всевозможные клятвы никогда не брать пера в руки. Но часто по вечерам, когда уже все расходились спать, он садился за письменный стол и подолгу сидел над белым листом бумаги. Иногда он пробовал писать, не думая, что подвернется, и страница-другая увлекали его, но, перечитав написанное, он, испуганно оглядываясь, уничтожал рукопись.
VI
Вервицкий и Берендя
Однажды Вервицкий и Берендя возвращались вместе из гостей.
Друзья шли молча.
— А не любит меня Корнев за то, что я ему правду-матку режу, — проговорил Вервицкий.
— Да ты когда резал?
— Да всегда.
Друзья опять замолчали.
— Зайдешь, что ли? — пригласил Вервицкий, подходя к воротам своего дома.
— А можно?
— Только долго не сиди и вперед уговор: больше двух папирос не дам.
— А к чаю хлеб будет?
— Этого сколько хочешь: тятькин.
Друзья, низко пригнувшись, вошли в калитку, прошли под освещенными окнами верхнего этажа, причем Берендя для чего-то даже пошел на цыпочках; затем свернули в маленький, темный проход и стали осторожно спускаться по крутой лестнице.
— Ой! — споткнулся Берендя и ухватился за плечо Вервицкого.
— Да ну!.. пусти, — ответил своим грубоватым, сиплым голосом Вервицкий и отворил дверь в низкую комнату, освещенную висячей лампой. Он быстрым пытливым взглядом обвел комнату и сейчас же что-то заметил.
— Ну, теперь поймал подлецов.
Он встал на табурет, достал с полки ящик с табаком и внимательно, долго смотрел в него. На лице его было и удовлетворение от искусно выполненного плана, и огорчение о погибшей безвозвратно горсти табаку. Его охватила злоба, он начал браниться и, наконец крикнув: «Отцу скажу!» — выскочил из комнаты.
Берендя как-то весь съежился во время этой сцены, и только когда Вервицкий ушел, он облегченно вздохнул. Рассеянно скрутив папиросу, он осторожно уселся на стул и, смотря в окно, стал пускать густые клубы дыма.
Сверху донесся сперва голос Вервицкого, затем резкий громкий — отца, затем визг братьев.
«За уши дерет», — мелькнуло в голове Беренди, и он испуганно раскрыл глаза и насторожился.
Дверь быстро отворилась, и вошел Вервицкий. Он остановился, неприятно огорченный клубами дыма.
— Начадил уж, — обратился он ворчливо к другу.
Но, заметив при этом и неимоверно толстую папиросу, он окончательно взбесился:
— Ты бы уж из всего табаку сделал!
— Если тебе обидно, я назад положу.
— Обидно, что табак переводишь. Хотя бы затягивался. — Вервицкий отворил фортку. — Сядь хоть около фортки, чтоб дым выходил.
— Изволь, — согласился Берендя.
Наступило молчание.
— Ну что, им уши надрал отец?
— Конечно, надрал, — ворчливо ответил Вервицкий. — Подлецы, каждый раз. А я откуда возьму? отец вот дает рубль в месяц — и изворачивайся на него.
— Да тебе на что при всем готовом?
— На что? Да вот табак.
— Глупости.
— Глупости, когда чужой, а купи его.
— Куренье вредно.
— Зачем же куришь?
— Я ведь, только если угостят.
— А я вот не могу… Не на что купить — лучше курить не буду, а чужого не попрошу.
— Послушай, я вот получу деньги, подарю тебе полфунта.
— Слышали.
— Право, подарю… А давно не высылали: хозяйка, того и гляди, выгонит… Чай вышел…
— Приходи ко мне чай пить. Идешь в гимназию — зашел, вечером зашел: напился и пошел.
— Я ведь, собственно, не любитель чаю. У меня в библиотеке полтора рубля есть… мог бы.
— Ну, уж я этого не понимаю.
Принесли чай, и друзья жадно набросились на еду.
Наевшись, напившись, Берендя улегся на кровать, причем Вервицкий, подобрев, добродушно проговорил: «Постой», — и подостлал под ноги Беренди, чтоб не запачкать одеяло, пальто гостя, а сам, усевшись к окну, взял гитару и, куря и смакуя, начал тихо наигрывать малороссийские мотивы. По низкой комнате в облаках дыма понеслись жалобные прерывающиеся звуки. Под них Вервицкий мечтал о своей будущей литературной славе, о Зиночке Карташевой, а Берендя лежал и не хотел ни о чем думать. На первом плане у него стоял вопрос о деньгах и о причине их невысылки, хорошо известной ему: вероятно, отец опять запил, и с этим вместе рисовалась ему вся тяжелая домашняя обстановка чиновника с грошовым жалованьем, громадной семьей да к тому же пьющего запоем.
Наигравшись, Вервицкий тоже пожелал поваляться на кровати и, слегка толкнув друга, сказал «пусти», улегся рядом с Берендей.
Он продолжал плавать в волнах своей будущей славы, той славы, которую всю без остатка он сложит к ногам Зиночки.
Беренде хотелось говорить. Все то, что в данный момент парализовало его мыслительные способности, просилось на язык.
— Ты знаешь, мой отец запоем пьет, — проговорил он.
— Гм! — ответил неопределенно Вервицкий.
— Собственно, если рассказать все — черт знает, ведь это какой трагизм, в сущности… Он ведь, когда напьется… ночью…
Берендя понизил голос и широко открыл свои желтые глаза.
— Отец пьяный, в одной рубахе, качается и бежит за нами по комнатам, а мы с матерью все от него… кричим…
— Послушай, — перебил его Вервицкий, — ты не обижайся: я тебе совет дам — никогда не рассказывай этого, потому что делу ты этим не поможешь, а сам выходишь в каком-то таком несимпатичном свете…
— Да я никогда никому и не говорю, — испуганно успокоил друга Берендя.
— И не надо говорить.
Друзья опять замолчали.
Мысли Вервицкого получили другое направление. Он думал о своем друге, о том, что он не то что дурак, а так, черт его знает что, без всякого такого уменья все это так делать, чтобы выходило по-людски. Ему жалко стало своего обездоленного друга, ему даже захотелось как-нибудь смягчить свое резкое замечание, которое он сказал от доброго сердца для его же пользы. Он стал уже придумывать что-нибудь, но в это время его вдруг точно что кольнуло в сердце, он быстро схватился за отвислый карман своей старой, из отцовской переделанной, жилетки, и, пощупав тяжелые серебряные часы, удачно купленные на толкучке за четыре рубля, вынул их, приподнялся на локоть к свету, сперва скользнул взглядом с удовольствием по крышке, затем, нажав пружину, посмотрел, который час, и, свистнув, проговорил:
— Э-ге-ге-ге! Десятого двадцать минут… Иди, иди, — добродушно обратился он к Беренде, — я еще ничего не готовил.
— О! — встревожился Берендя, — и мне тоже ведь надо.
Он оделся, скрутил на дорогу еще одну папироску, третью по счету, предварительно спросив:
— Можно?
— Ну, да крути, да не разбрасывай хотя, — ответил Вервицкий.
И пока Берендя крутил, поглядывая в то же время добродушно-лукаво на Вервицкого, что вот, дескать, не в счет, последний с добродушно-разочарованной миной следил за неумелым крученьем Берендей папироски и за исчезавшим в папироске табаком. Ему жаль было не табаку, а все того же Берендю, который и этой мелочью, и неуменьем крутить, и посягательством на эту третью папироску так характерно обрисовывался в глазах молодого писателя.