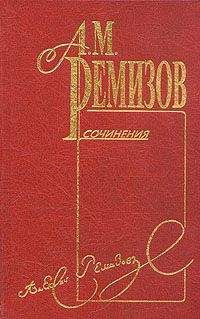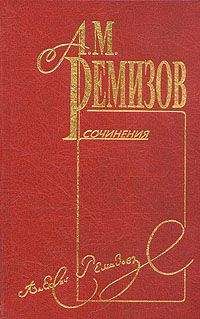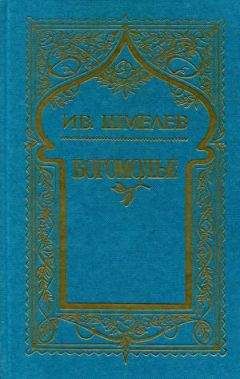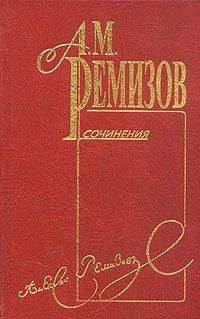Алексей Ремизов - Том 10. Петербургский буерак
Детям очень понравилось играть в обезьяньего царя. Я рисовал им «обезьяньи знаки»: линии, как они сами из себя вылиниваются, по Кандинскому; из фигур, а у них всегда свое лицо, высовывались или прятались, высматривая рожи и морды другого, не фигурного мира, чудища и звери, конечно «лютые», но в своем существе, по Достоевскому («Бог им дал начало мысли и безмятежную радость»), как на рисунках Ф. С. Рожанковского и Натальи Парэн; звери пугать пугали, и иначе невозможно, но они были своими, они тоже пугались, очень близкие детскому безмятежному миру.
Детей занимало и то, что они должны были носить эти знаки скрытно, никому не заметно – тайна! и то, что если и заметят, все равно никто ничего не поймет, а также трудновыговариваемое имя царя и то, что его никто не видел и о нем никто ничего не знает.
Они верили, что только один я, как-то «схвостясь», могу с ним разговаривать и объясняться на «обезьяньем языке».
А от детей игра перешла к взрослым, и «обезьянье царство» как-то само собой получило в войну и революцию сатирический характер12 свифтовского лошадиного царства гуигнгнмов13царь Асыка издавал манифесты и подписывал «собственнохвостно» декреты14. Но и то скажу: что я могу подарить людям? Прежде была надежда: книгу; но теперь, когда нет никакой возможности издать и все подготовленное – вся работа многих годов обречено храниться в рукописях? Именины, рожденье, Пасха, Рождество или юбилей, или свадьба, или кто мне добро сделал, и хочется как-то выразить человеку – со всякими завитками я писал «обезьяньи грамоты»: жалованье обезьяньего царя о возведении в кавалеры обезьяньего знака, украшенного виноградом, турецкими бобами, лисьим хвостом, египетской пирамидой, все по человеку, и разрисовывал обезьянью печать, и каждый раз по-другому.
И что я заметил, мои грамоты принимались с добрым чувством: я помню, как читал свою Анатолий Федорович Кони, как слушал Зигфрид – Иван Васильевич Ершов, когда на юбилейном спектакле в Мариинском театре ему читали всенародно, вижу и Федора Кузьмича Сологуба, всегда сурового, вдруг улыбнувшегося на свой знак, и А. М. Горького, возведенного в «князья обезьяньи», втянув воздух и раздувая ноздри. «Из рода Пешковых (ударение на «о») – князь, какие же мои обязанности?» Я сказал: «никакие». Так, по обезьяньей конституции.
Но подумал, как всегда думал, что только в беде и нужде знает человек: что человек человеку должен. И всего единственный раз мне показалось… действие, произведенное моей грамотой, было совсем не то и все не так.
Игра в обезьяньего царя – театр без грима и масок. Исключение: дети – я их красил, их рожицы и руки. Счастливые они уходили от меня; они не подозревали, какое доставляло мне удовольствие – эти краски по живому, смеющемуся матерьялу.
Был случай, обезьянья палата держалась на ниточке.15
Обезьянье делопроизводство велось не на кириллице, всем понятной, на ней пишут книги и прошения, а на «глаголице», о которой редко кто слышал.
При обыске обратили внимание на фигурки – ничего понять невозможно. Сам нарком по просвещению Луначарский не понимает! Будь это в Москве, с Каменевым легко поладить, но в Петербурге Зиновьев. Пришлось подымать Горького и научить его ответу. И Горький объяснил Зиновьеву, что фигурки – глаголица, а глаголица не шифр, не криптография, тайнопись, а буквы нашей первой азбуки. «Наша первая азбука, – сказал Горький, – глаголица, ученые думают, ее, а не кириллицу изобрели первоучители славянские, святые Кирилл Философ и Мефодий».
IV
«Дворецкий» (Дягилев)
Дягилевские вечера в Париже*
Дягилев (1872–1929) в Петербурге искони был «идолище» – и таким остался до своего русского «интернационала»: он покинул Россию для всемирной славы России.
На него смотрели: человек, одаренный всеми дарами: певец, музыкант, художник, писатель. Да так он и сам о себе думал и безуспешно пробовал силу в искусствах – дикий звериный голос, слова без связи и выражения.
Гордо поднятая большая голова – седой отмёт, стоит он, левую в карман,1 левым – в оба, правый – вжмурь, какой живописный – пустоцвет! И тут же в сторонке – видит он или не видит – серый камушек: его нянька.
Няньку знаю по рисунку Бакста, а встречал другую – старые русские няньки – крепостное тепло – одной породы! – няньку Мережковских.
Ее на Литейном и на Песках величали за кроткое усердие и необыкновенный хозяйственный нюх «нянечка». Получить такой надзорный камушек большое счастье: не пропадешь.
Произнося «Сергей Павлович», нянька исходила всеми своими стертыми заботами, как перед образом ставя тоненькую свечку. То же и Михаил Алексеевич Кузмин – и у него со всем убеждением Символа веры: «верую» – звучало, прерываясь: «Сергей Павлович».
Катучему камушку и для крылатого александрийца слово Дягилева – суд непосужаемый.
Обездолив талантами, судьба наделила Дягилева редким таланом.
Талан2 Дягилева – суд Судить – различать. Дягилев великий дискриминатор – «в равных различаю».
Он покажет всему миру из русской сокровищницы русские драгоценности. Дворецкий в чужих прославит свой Двор-Россию: Шаляпин, Нижинский, Лифарь. – Стравинский, Прокофьев. – Павлова, Карсавина, Спесивцева. – Бенуа, Серов, Бакст, Рерих, Головин, Лансере, Еремич, Ларионов, Гончарова.
2Наше знакомство начинается по-дурацки: я написал Дягилеву – Дягилев мне не ответил.
Не отвечают на письма: или опытные жулики – всякий документ и самый незначительный улика; или незаинтересованные – на всякое чиханье не наздравствуешься; или что веруют в грамматику и стесняются своей нетвердости.
С Дягилевым никакое не путается, – так в чем же дело?
Редакция «Вопросы Жизни»3.
В. Ж. – толстый журнал 1905 года: благонамеренная революция, живописная эстетика прекратившегося «Мира Искусства»4 (Дягилева-Бенуа); критические переоценки исчезнувшего «Северного Вестника»5 (А. Л. Волынский); декадентские отщипки московского «Скорпиона» (В. Я. Брюсов); религиозно-философские курбеты Мережковских, наследство «Нового Пути»6; стихи А. А. Блока, разжиженная пародия на монументальных «Головлевых» – роман Ф. К. Сологуба «Мелкий бес»7, фаллические гастроли В. В. Розанова и внутреннее обозрение – В. В. Водовозов и Г. Н. Штильман – на улице Революция! Редакторы: отставные марксисты – Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков (тогда еще не о. Сергий, а Сергей Николаевич). Издатель Д. Е. Жуковский.
Я занимаю должность ответственную, не по носу. на моих руках хозяйство8 – кассир, бухгалтер и сметчик.
Жуковский, усумнившийся в моих литературных способностях (в В. Ж. печатался «по знакомству» мой «Пруд»), беззаветно и самоотверженно поверил в мой коммерческий талант по моему знаменитому московскому торгово-промышленному и биржевому происхождению.
«Что вы такое написали, Дягилев обиделся?» озадачил меня Жуковский.
– По делу о ликвидации Мира Искусства, – и я показал копию моего письма, – Дягилев не ответил.
Жуковский, внимательно читая мое письмо, подхмыкивал, что означало «правильно».
«Но при чем тут дворецкий?» и он громко повторил мою подпись: «дворецкий Вопросов Жизни».
– Дворецкий, моя должность!
«Понимаю! громче произнес Жуковский, радуясь, что разрешил загадку, Дягилев обиделся на “дворецкого”. Говорят, он сказал: “я с лакеями не переписываюсь”».
– А вы знаете, что такое «дворецкий»? и я Дягилевым гордо поднял голову, дворецкий первый при московском царе и великом князе заступает царя в судебных решениях. А он меня в лакейскую. Да это все равно, что спутать государева приказного дьяка с церковным дьячком!
Жуковский зоолог, ему как и Дягилеву историческое значение «дворецкий», в первый раз слышит.
«Я сам ему напишу», сказал он, морщась, что означало: недоволен.
3Вечер у Паренсовых – мое первое петербургское выступление.
В гостиной, куда собирались по особым приглашениям – цвет Петербурга! – было заставлено и очень тесно, а нарядно-бархатная круть и все эти причесанные вечерние, несуетливо передвигавшиеся, занимая места, казалось, задавят меня, а между тем, проходя, я задевал и ковер и кресла. И как обрадовался – в моих затолоченных глазах вдруг заголубело: А. А. Блок, Л. Д. Семенов-Тянь-Шанский и Н. Н. Ге – они были в студенческих мундирах, весенние. А за ними серым комком – серые моржовые усы, блестя лысиной, Ф. К. Сологуб, – знакомые.