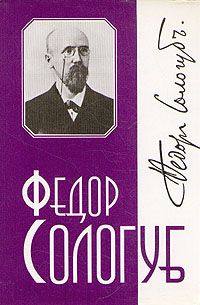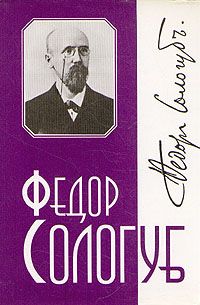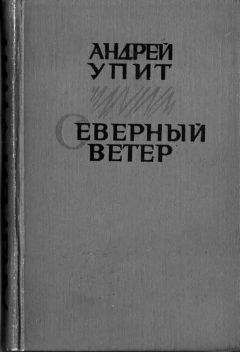Федор Сологуб - Тяжёлые сны
Логин быстро подошел к решетке. Сказал что-то.
Что-то сказала Анна.
Стояли, и улыбались, и доверчиво глядели друг на друга. На ее лицо падали лунные лучи, и под ними оно казалось бледно. Доверчивы были ее глаза, но сквозило в них тревожное, робкое выражение. Ее пальцы слегка вздрагивали. Потянула к себе решетку. Калитка слабо скрипнула и затворилась. Анна сказала:
— Поет соловей.
Тихий слегка звенел голос.
— Вам холодно, — сказал Логин. Взял ее тонкие пальцы. Нежно и кротко улыбалась и не отнимала их. Шепнула:
— Тепло.
Мял и жал ее длинные пальцы. Что-то говорил, простое и радостное, о соловье, о луне, о воздухе, еще о чем-то, столь же наивном и близком. Отвечала ему так же. Чувствовал, что его голос замирает и дрожит, что грудь захватывает новое, неодолимое. Руки их скользили, сближались. Вот белое плечо мелькнуло перед горячим взором, вздрогнуло под холодною, замиравшею рукою. Вот ее лицо внезапно побледнело и стало так близко, — так близки стали широкие глаза. Вот глянули тревожно, испуганно, — и вдруг опустились, закрылись ресницами. Поцелуй, тихий, нежный, долгий…
Анна откинулась назад. От сладкого забвения разбуженный, стоял Логин. У его груди-жесткая решетка с плоским верхом, а за нею Анна. Ее опущенные глаза словно чего-то искали на траве, или словно к чему-то она прислушивалась: так тихо стояла. Тихо позвал ее:
— Анна!
Она встрепенулась, порывисто прильнула к решетке. Целовал ее руки, повторял:
— Анна! Любушка моя!
— Родной, милый!
Обхватила руками его наклоненную голову и поцеловала высокий лоб. Мгновенно было ощущение милой близости. Вдруг ее стан с легким шорохом отпрянул от нетерпеливых рук. Логин поднял голову. Уже Анна бежала по дорожке к дому, и белая одежда колыхалась на бегу.
— Я люблю тебя, Анна! — сказал он тихо.
Приостановилась у ступенек террасы. Услышала. В туманном сумраке сада еще раз милое лицо, со счастливою, нежною улыбкою… И вот уже только ее ноги видит на пологих ступенях, и вот исчезла, — ночная греза…
Не замечал и не помнил дороги домой. Время застыло-вся душа остановилась на одном мгновении.
"Не сон ли это, — думал, — дивная ночь, и она, несравненная? Но если сон, пусть бы я никогда не просыпался. Докучны и холодны видения жизни. И умереть бы мне в обаятельном сне, на зачарованных луною каменьях!"
Шаткие ступени крыльца разбудили докучным скрипом. В своей комнате Логин опять нашел темное, неизбежное. Злые сомнения вновь зашевелились, еще неясно сознаваемые, — смутные, тягостные предчувствия. Странный холод обнял душу, но голова пылала. Вдруг язвительная мысль:
"Теперь не опасны столкновения: могу выйти в отставку у меня будет богатая жена".
Побледнел от злобы и отчаяния; долго ходил по комнате; сумрачно было лицо. Образ Анны побледнел, затуманился.
Но вот, солнце сквозь тучи, сквозь рой мрачных и злобных мыслей снова засияли лучистые, доверчивые глаза. Анна глядела на него и говорила:
"Любовь сильнее всего, что люди создали, чтобы нагромоздить между собою преграды, — будем любить друг друга и станем, как боги, творить, и создадим новые небеса, новую землю".
Так колебался Логин и переходил от злобы и отчаяния к радостным, светлым надеждам. Всю ночь не мог заснуть. Сладкие муки и горькие муки одинаково гнали ночное забвение. Уединение и тьма были живы и лживы. Часы летели.
Лучи раннего солнца упали в окно. Логин подошел к окну, открыл его. Доносились звуки утра, голоса, шум. Хлопнули ворота, — звонкий бабий голос, — пробежала звучно по шатким мосткам под окнами босая девчонка с лохматою головою. Холодок передернул плечи Логина. Начиналась обычная жизнь, пустая, скучная, ненужная.
Глава тридцатая
Андозерскому казалось необходимым отомстить Анне, доказать, что отказ нисколько не огорчил его. На другой же день Андозерский отправился овладеть рукою Клавдии.
Клавдия была бледна, смущена. Открытая беседка в саду, где она сидела с Андозерским, веяла знойными воспоминаниями. И солнце было знойно, и воздух горяч, и первые пионы слишком ярки, и поздние сирени раздражали приторным запахом. Песок дорожек досадно сверкал на солнце. Зелень деревьев казалась некрасиво глянцевитою. Сквозь запахи зелени и цветов пробивался далекий запах городской пыли.
Клавдия сложила руки на коленях, смотрела в сад, рассеянно слушала красноречивые объяснения Андозерского. Наконец он сказал:
— Теперь я жду вашего решения. Клавдия повернула к нему расстроенное лицо и бледно улыбнулась. Сказала:
— Вы ошиблись во мне. Что я вам? Я не могу доставить счастия.
— Одно ваше согласие будет для меня величайшим счастием.
— Немногим же вы довольны. Я иначе понимаю счастие.
— Как же? — спросил Андозерский.
— Чтоб жизнь была полная, хоть на один час, а там, пожалуй, и не надо ее.
— Поверьте Клавдия Александровна, я сумею сделать вас счастливою!
Клавдия улыбнулась.
— Если бы это… Сомневаюсь. Да и не надо, поверьте, не надо. Я не могу дать вам счастия. Правда!
Клавдия встала. Встал и Андозерский. Его голова закружилась. Испытывал такое ощущение, как если бы перед ним внезапно открылась зияющая бездна. Воскликнул:
— О моем счастии что думать! Одно мое счастие— чтоб вы были счастливы, и для этого я готов на всякие жертвы. Без вас я-полчеловека.
Клавдия посмотрела на него с улыбкою, ему непонятною, но опьянившею его. В эту минуту был уверен, что искренно любит Клавдию. Жажда обладания зажигалась.
— Да? — спросила Клавдия холодным голосом. Холод ее голоса еще более разжигал его страсть. Он повторял растерянно:
— Всякие жертвы, всякие!
И не находил других слов. Клавдия говорила так же холодно:
— Если это так, то я, право, и не стою такой любви. Для моего счастия вы могли бы принести только одну жертву, которую я приняла бы с благодарностью.
Совсем насмешливо.
— О, вам стоит только сказать слово! — в радостном возбуждении воскликнул Андозерский.
Клавдия отвернулась, устремила в сад блуждающие взоры и тихо говорила:
— Да, очень благодарна. Если б вы могли, если б вы могли принести эту жертву!
— Скажите, скажите, я все сделаю, — говорил Андозерский.
Осыпал поцелуями ее руку, и ее рука трепетала в его руке и была бледна, как у мраморной статуи.
Клавдия колебалась. Жестокая улыбка блуждала на ее губах. Глаза ее мрачно всматривались во что-то далекое. Заговорила, — и голос ее звучал то жестокими, то робкими интонациями:
— Вот, — вы возьмите меня только для того, чтобы отдать другому. Вот жертва! Ведь вы говорили про всякую жертву. Вот это — тоже жертва! Что ж, если можете… а нет, как хотите. Что ж вы молчите?
— Но это так странно! — смущенно сказал Андозерский. — Я, право, не понимаю.
— Это просто. Мы повенчаемся. Потом я уеду. Мне это нужно: я буду самостоятельна и буду жить с тем, кого я… да, за него я не могу выйти замуж. Одним словом, мне это нужно. А вам, вы говорите, это доставит величайшее счастие.
Лицо Клавдии совсем побледнело. Голос сделался сухим, злым. Смотрела на Андозерского жестокими глазами и улыбалась недоброю улыбкою, и от этой улыбки Андозерский горел и трепетал.
"Это — черт знает что такое!" — думал он.
Провел по влажному лбу рукою. Его пухлые руки дрожали.
— Что ж, согласны? За такую любезность с вашей стороны и я поделюсь с вами маленькой долей счастия и большой долей богатства.
Глаза Клавдии широко раскрылись, засветились диким торжеством. Засмеялась, откинулась назад гибким и стройным станом, поламывала над головою вздрагивающие руки. Широкие рукава платья сползли и обнажили руки. Бледное, злобно ликующее лицо смотрело из живой рамки, из-за тонких, вдруг порозовевших рук, — две трепетные, розовые, гибкие змеи сплелись и смеялись зыбко над зелеными зарницами озорных глаз.
— Ах, что вы говорите! воскликнул Андозерский. — Вы обольстительны! И уступить вас другому, — какая нелепость! Зачем? О, как я вас люблю! Но я для себя вас люблю, для себя.
Клавдия повернулась к дверям беседки. Андозерский бросился к ней и умоляющим движением протянул руки. Ее лицо приняло неподвижно-холодное выражение. Сухо сказала:
— Не к чему было и говорить о жертвах. И пошла мимо Андозерского к выходу. Остановилась у двери, повернулась к Андозерскому, сказала:
— Вы меня извините, пожалуйста, но вы сами видите, — это между нами невозможно и никогда не будет возможно.
Вышла из беседки. Андозерский остался один.
Клавдия остановилась в нескольких шагах, рассеянно срывала и мяла в бледных пальцах листки сирени.
"Проклятая девчонка! — думал Андозерский. — Обольстительная, дикая, — не к лучшему ли? Однако, черт возьми, положение! Надо убираться подобру-поздорову!"
Вышел из беседки, подошел к Клавдии.