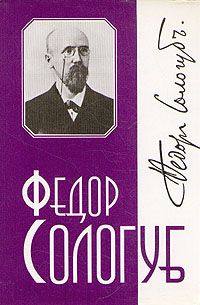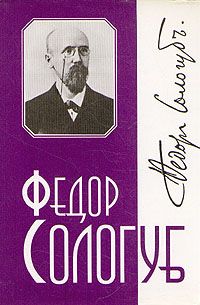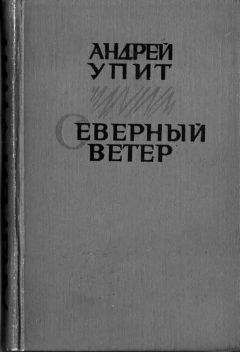Федор Сологуб - Тяжёлые сны
В этот день Андозерский решился наконец закрепить выбор невесты. Недаром вчера сидел запершись и пил: обдумывал предстоящий шаг.
Богаче всех невест была Анна. Андозерский решил, что любит ее. Пора было сделать предложение. Был почти уверен, что его ждут с нетерпением.
Благоразумнее бы отложить до завтра, чтоб вести дело со свежею головою. Но водка и досада на Логина подстрекали.
"Он за нею, кажется, приволокнуться вздумал, — размышлял Андозерский, — докажу ж я ему дружбу!"
Выкупался. Показалось, что голова свежа, как никогда. "Чист как стеклышко", — вспомнил поговорку Баглаева. Вдруг стало весело и приятно. Думал, что от него, может быть, попахивает вином, но это не беда: облил духами одежду и был уверен, что благоухание заглушит винный букет.
Быстро доехал Андозерский до усадьбы Ермолина. Судьба благоприятствовала: Анна была дома, одна, сидела на террасе, читала. Черные косы сложены низким узлом. Золотисто-желтое узкое платье, высоко опоясанное, шло к милому загару босых ног.
— Можно полюбопытствовать? — спросил Андозерский.
Анна дала ему книгу. Андозерский прочел заглавие, сделал удивленные глаза и сказал:
— Охота вам читать такие книги! Анна сдержанно улыбнулась. Спросила:
— Отчего же не читать таких книг?
— Эти книги годятся только для того, кто богат жизненным опытом. Сердца неопытные, незакаленные только напрасно ожесточаются при чтении таких книг, пропитываются ложными взглядами, а противовеса в пережитом и испытанном нет.
Анна внимательно смотрела на Андозерского. Легонько усмехнулась. Сказала:
— Что ж делать! Эту начала, так уж надо кончить.
— Ох, не советовал бы! Но, впрочем, не будем терять дорогого времени. Я хотел сообщить вам кое-что, вы позволите?
— Пожалуйста.
Андозерский замолчал, словно отыскивая слова. Анна выждала немного и сказала:
— Я слушаю вас, Анатолий Петрович.
— Видите ли, этого в коротких словах не скажешь. Да и нет, пожалуй, слов подходящих: все старо, избито. Вот видите, весна, цветы цветут, — все это настраивает так мечтательно, молодеешь весной.
— Ваша весна уже прошла, — лукаво сказала Анна.
— Да, прошла, украдкой, незаметно, а теперь возвращается, да какая прекрасная! Душа радуется, становишься добрее и чище.
— Чем же вы отметили этот возврат вашей весны? — тихо спросила Анна.
Смотрела вдаль мимо Андозерского. Глаза ее сделались грустными.
— Пока еще не знаю, — сказал Андозерский, — но думаю, что отметил чувством.
— Вы говорите, что стали добрее, лучше, — конечно, это не фраза?
— Да, да, это верно! — воскликнул Андозерский. Он видел лицо Анны только сбоку: она повернулась на стуле и, казалось, внимательно рассматривала что-то вдали, там, где сквозь ярко-зеленую листву сада виднелись золоченые кресты городских церквей. Сказала медленно, раздумчиво:
— Это бывает редко, так редко, что в такие праздники души как-то даже и не веришь. Добрее, лучше, — как это хорошо, какое просветление! После причастия так чувствуют себя верующие. Но вот, скажите, как же это отражается в вашей деятельности, в службе?
Анна быстро повернулась к Андозерскому и внимательно всматривалась в него. Ее лицо вдруг вспыхнуло и отражало быструю смену чувств и мыслей.
— Это, Анна Максимовна, сухая и грубая материя, моя служба, — для вас это вовсе не интересно.
Аннино лицо внезапно стало равнодушным. Она сказала холодно:
— Извините. Я приняла это за чистую монету: думала, вы в самом деле хотите рассказать о вашем ренессансе.
— Анна Максимовна, могу ли я говорить о делах, когда у меня на сердце совсем другое! Но скажите, ради Бога, ведь вы не могли не заметить того нежного чувства, которое я к вам питаю?
Анна встала порывисто. Краснея багряно, отвернулась от него.
— Скажите, — говорил Андозерский, подходя к ней, — ведь вы…
Анна перебила его:
— Вот, вы говорите о вашем возрождении, а не хотите сказать, что делаете на службе. Я знаю, сегодня было назначено заседание уездного съезда, и вы там должны были быть. Скажите, изменил съезд приговор об этом мальчике? Кувалдин, так, кажется, его фамилия?
— Да, изменил.
— Оправдали мальчика?
— Как же можно было его оправдать!
— Смягчили приговор? Нет? Усилили, значит? Да? Неужели, неужели?
— Ах, Анна Максимовна!
— Но вы-то, ведь вы были не согласны с другими? Нет? И вы так же думали? С весною в сердце вы подписывали такой приговор, грубый, глупый, безжалостный? И для этого стоило возрождаться? Вы любите шутить, Анатолий Петрович!
— К чему вам это, Анна Максимовна? Ведь это— служба, дело совести.
— Вся жизнь-дело одной совести, а не двух… Впрочем, этот разговор, конечно, ни к чему. А только вы сами заговорили о вашем возрождении. Не терплю я пустых фраз.
— Любовь моя к вам-не фраза. Анна Максимовна, скажите же мне…
— Если бы даже я имела несчастие полюбить человека, который любит то, что я ненавижу, ненавидит то, что я люблю, то и тогда я отказалась бы от глупости разбить свою жизнь. И у меня к вам нет никаких чувств.
— Но я питал надежды, и мне казалось, что я имел основание…
— Довольно об этом, Анатолий Петрович, прошу вас. Вы ошибались.
Анна тихо сошла по ступеням террасы в сад, зелено смеющийся перед нею. Веселые красные цветки на куртине закружились хороводом, радостно-легким.
Андозерский с яростью смотрел на Анну. И уже все в ней стало для него вдруг ненавистным — и красивость ее простой одежды, и ее прическа, и ее уверенная и легкая походка, и нестыдливая загорелость ее босых ног.
"Хоть бы для гостя башмаки надела!" — с яростною досадою думал он.
Глава двадцать девятая
Логин шел по улицам. Томило ощущение сна и бездеятельности. Не то чтоб все спали: солнце было еще высоко, люди шевелились, тявкали собачонки, смеялись дети, — но все было мертво и тускло. У заборов кое-где таила злые ожоги высокая крапива; пыль серела на немощеной земле.
Логин остановился на мостике через ручей; облокотился о перила. Мутная вода лениво переливалась в узком русле; упругие дымно-синеватые струйки змеились около устоев мостика; там колыхались щепки и сор. Мальчик и девочка, лет по восьми, блуждали у берега и брызгали вскипавшую белою пеною под их бурыми от загара босыми ногами воду. Их шалости были флегматичны.
Логин шел дальше. Пятилетний мальчишка, сын акцизного чиновника, катился на самокате. Не улыбался и не кричал. Лицо его было бледно, мускулы вялы.
Попадались бабы: тупые лица, девчонки: пустые глаза, в цепких руках что-то из лавки, рыжий мещанин: книжка под мышкою, босой и грязный юродивый, у всех просил копеечку и, не получив ее, ругался. Встречались пьяные мужики, растерзанные, безобразные. Шатались, горланили. Изредка проплывала барыня-кутафья, утиная походка, лимонное лицо, глаза сусального золота.
Логин проходил мимо холерного барака. На крылечке стоял фельдшер, толстенький карапуз, белый пиджачок. Логин спросил:
— Как дела, Степан Матвеич?
— Да что, табак дело! — отвечал сокрушенно фельдшер.
— Что ж так?
— Поверите ли, весь истрепался, так истрепался… Да вот вы посмотрите, вот пиджак…
Фельдшер запахнул на груди пиджак.
— Видите, как сходится?
— Похудели, — с улыбкою сказал Логин.
— И сколько тут всякой рвани шляется, просто уму непостижимо! Таких слов каждый день наслушаешься— душа в пятках безвыходно пребывает. Хоть бы уж один конец!
— Ничего, обойдется.
— Уж не знаю, как Бог пронесет.
Вдруг фельдшер как-то весь осунулся, побледнел, наскоро поклонился Логину и юркнул внутрь барака. Логин оглянулся. На другой стороне улицы, против барака, стоял буян оловянные глаза. Он презрительно скосил губы, сплюнул и заговорил:
— Удивительно! Так-таки среди бела дня! Тьфу! Ни стыда, ни совести, ни страха! Ну, народец! Уж, значит, на отчаянность пошли.
Логин постоял, поглядел и пошел на вал. Эта встреча тяжко подействовала на его настроение, но в сознании только поверхностно скользнула: думал о другом.
Любил бывать на валу. Вокруг было открыто и светло, ветер налетал и проносился смело и свободно, — и думы становились чище и свободнее. После подъема на высокую лестницу и грудь расширялась радостно и вольно.
Но сегодня и наверху было плохо: ветер молчал, солнце светило мертво, неподвижно, воздух был зноен, тяжел. Порою пыльная морока плясала, мальчишка с хохочущими глазами. Порою Логин слышал рядом шорох босых ног по траве, — что это? поступь Анны? или серая морока? Обернется — никого.
И об Анне думал сегодня горько:
"Я погублю ее, или она меня спасет? Я недостоин ее и не должен к ней приближаться. Да и может ли она полюбить меня? Меня самого, а не созданный, быть может, ею лживый образ, разукрашенный несуществующими достоинствами?"