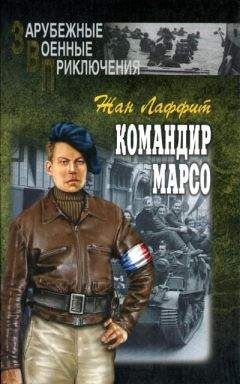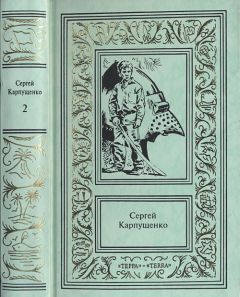Сергей Залыгин - Комиссия
Тут было светло, и первое, что увидел не в самом пожаре, а рядом с ним Устинов, — это пароконную телегу, заваленную большими и малыми сундуками и запряженную в пару. Кони — оба темно-серые, выездные — привязаны вожжами к дереву, кожа на них непрестанно содрогается, морды опущены вниз, к земле, потому что вожжи были захлестнуты за дерево у самого комля.
С края огромного и красного пожарищного круга стояла небольшая, до сих пор чудом сохранившаяся амбарушка, с другой стороны поднимались сосны тоже сверху донизу красные, жались к земле редкие кустарники, а за кустарниками уже проглядывалась степь со снежком, сквозь который там и здесь проступали темные кочки, колеи дорог и даже гребни пашенных борозд, но, кроме коней, запряженных в телегу, нигде не было ни одной живой душини людей, ни скотины, ни птицы — никого. Только из бора, из темноты показался было огромный черный кобель со сверкающей от огня железной цепью, за ним сунулся другой, на трех ногах, и тут же оба снова исчезли.
Смирновский выскочил из розвальней, тоже закинул вожжи за дерево и сказал:
— Однако, сгорели все?
— Огонь! Огонь! Пламя! Пламя! — громко и быстро снова заговорил Кудеяр, а Устинов молча представил себе, как было дело: в пожаре сгорели все — и люди, и скотина, живым оставался только сам Гришка, он вывел двух коней с телегой, повытаскал на телегу сундуки, но ему показалось мало, он кинулся еще за каким-то добром и сгорел тоже.
И хотя Устинов не сказал ни слова о своей догадке, он понял, что и Смирновский прикинул точно так же, и даже Кудеяр сообразил, как и что здесь произошло.
Однако же Гришка Сухих был жив, и вскоре они увидели его.
Гришка был по ту сторону пожарища. Он сидел на табуретке, смотрел в огонь и курил. На нем была плюшевая бабья кофта-жакет, перехваченная солдатским ремнем и растопыренная на груди оттого, что там лежал какой-то узелок, показываясь наружу двумя кончиками пестрого материала; на плечах и на спине кофты желтели ватой прогоревшие дыры, на голове не было ничего, только лохматый волос, из которого, показалось Устинову, тянуло легким дымком.
Придерживая одной рукой цигарку, другой Гришка трепал себя за бороду левая половина бороды была у него подпаленной, серой, он вытряхивал из нее пепел.
Смирновский, Устинов и Кудеяр подошли к нему.
Гришка не пошевелился. Как сидел, курил и трепал бороду, так и продолжал свое занятие. На огонь он смотрел даже с интересом и сочувствием, как смотрят в задумчивости на огонек небольшого костерка.
— Григорий? Скотина-то не сгорела у тебя? — спросил Смирновский.
Гришка пожал плечами, но не ответил.
— Скотина сгорела?! — переспросил Родион Гаврилович.
Гришка снова пожал плечами:
— А не всё ли энто теперь одно? — подумал и еще сказал: — Энто нонче всё одно…
— Люди? Люди не погорели, Григорий?
— А не всё ли энто нонче одно? — снова ответил Гришка. — Што сгорело, то уже сгорело. Раз и навсегда.
— Огонь? Огонь? Пламя? Пламя? — теперь уже не уверял, а спрашивал у кого-то Кудеяр. — Пламя?!
— Дак ведь тут кем-то сделано, Григорий? — спросил Устинов. — У тебя-то кто в мыслях?
Гришка выплюнул догоравшую цигарку, обернулся к Устинову и засмеялся:
— Интересно спрашиваешь, Устинов! Интересно-то как! — и начал завертывать другую. Завернув, поднялся с табуретки, подошел ближе к пожару и протянул к огню руку. Постоял так с протянутой рукой, и в ладонь ему упал небольшой уголек — их тысячами разбрасывало пламя, таких искорок и угольков, — Гришка быстро прикурил от одного из них и вернулся на свое место, на табуретку.
Пожар словно вознегодовал от этого обращения с ним и разъярился, затрещал и загудел, снова впал в бешенство — ему уже не хватало ни пути, ни пищи, уже миновало его главное и бесшабашное пиршество, когда он метался из стороны в сторону, от одного лакомства к другому, повсюду встречая сухое, податливое дерево; он теперь на второй раз облизывал каждое бревно, искал собственные объедки, всё, что было им пропущено, не сожрано сразу же. Он был теперь не столько огнем, сколько жаром, раскаляя вокруг себя воздух, всё еще нацеливаясь через этот жар перекинуться на сосны, а с них — на весь бор, а с бора — на весь мир, но сосны, потрескивая и стекленея, роняя паленую хвою, не загорались, а тогда пожар стал тянуться в сторону небольшой амбарушки, которая вся была огнем просвечена, но не горела и не горела до сих пор.
Пожар к ней тянулся, освещал ее пронзительно, казалось, даже не с одной, а со всех сторон, сверху падал на нее ярким светом — снежок на кровле давно уже растопился, кровля дымилась паром.
— Ребята, — сказал Смирновский, — давайте хотя бы амбарушку эту спасем, что ли? Берем слеги, откатываем горящие бревна от нее подальше! Ну? У тебя там что, Григорий? Зерно? Еще какое добро?
— Разное у меня там добро, Родион, — ответил нехотя Григорий. — Зерно семенное. Шерсть прессованная. Деготь. Стекло оконное. Разное добро имеется там.
— Она спасенная, эта амбарушка, Родион Гаврилович! До ее огню уже не дотянуться, нет! — сказал Устинов.
— Не дотянуться? — живо спросил Григорий. — Энто не дело — не дотягиваться! Нет! Мы энто поправим! — И он снова поднялся с табуретки, обернув руку подолом своей кофты, выхватил из огня головешку и, припадая на хромую ногу, быстро побежал к амбару. Подбежав, сунул головню в щель между двумя досками приступки, переломал ее и другую половинку бросил на крышу амбара. И там и здесь, и с крыльца и с крыши, тотчас занялся огонь, наверху — меньше, от приступки — больше и яростнее, здесь он лизнул дверь, зачернил ее и как будто от нее отпал, но только на мгновение, а потом снова прильнул к доскам двери, вскочил еще выше — на карниз, с карниза еще выше — на венцы и снова, поверив, что теперь-то он уже не остановится, никогда не потухнет, что ему будет что пожирать без конца, — радостно взметнулся в небо.
— Ну, что же это ты делаешь, Григорий? — спросил Смирновский, и в калмыковатом его взгляде тоже вспыхнуло зло, какая-то обида, и Гришка толкнул обратно в рот цигарку, которая оказалась у него зажатой в левой руке, и ответил:
— Жалею — землю энту пожечь нельзя! Не сгорит! Когда уже на энтой земле мне не жить, то и место самое пожечь ба! Вот ба — да-а! Вот ба я бы загорелся, а из меня бы пожар на весь ба уезд! Вот ба — да-а!
— Ну как же так-то? — изумился Устинов. — При чем здесь место? При чем земля? Да разве она виноватая?
— А неужели? Когда я горю либо тону, тогда всё вокруг меня виноватое есть!
— Сундуки-то ты из огня, Григорий, таскал? Сам горел, а из огня их выносил? Значит, нужно тебе твое добро?
— Таскал! — согласился Гришка. — Што успел. А што с собою не увезу, хотя свое добро, хотя землю вот энту, хотя бор сосновый кругом, хотя и тебя, Устинов, дак энто всё да пожечь! Всё ба! До края! Тебя бы, Никола, особенно!
— Братья у тебя здесь родные! — никак не соглашался Устинов. — Братья в Лебяжке — сам уедешь, им добро осталось бы!
— Какие такие братья? — спросил Гришка. — Смех же один, а не братья! И Сухих захохотал, подошел к табуретке, схватил ее за ножку и тоже бросил в огонь. — Смех один, ей-бо! Што попридумывали, а? Братьев попридумывали! Выплюнул цигарку на землю и по привычке затоптал ее ногой. Повернулся и пошел к своей подводе.
Через минуту, ругая последними словами коней и всё на свете, Гришка Сухих уже выезжал из пожарищного круга в темную, безмолвную степь.
Он уехал бы, не оглянувшись, но Кудеяр крикнул ему:
— Григорий! Ты пошто же энто? Ты сам себя пожег, Григорий! Сам?
Сухих попридержал коней и обернулся. Погрозил кулаком:
— Ладно, што ты, Кудеяр! Другого дак я ба сейчас и спалил за слова! Ладно, што ты, Кудеяр! Другого ба пихнул ба вот в пожар, и хорошо ба получилось! — И он снова понужнул коней палкой, кнута у него не было, а потом обернулся еще раз: — Ждать мне некогда! А то ба подождал! Посидел ба у огонька-то! Поглядел — кто ишшо-то на мой огонек явится, кроме как вы! Поджигатель — он же завсегда выходит дело рук своих поглядеть! Как убивец выходит к убиенному. Но недосуг. Недосуг, да, может, и не явится никто, кроме вас троих! Ну покеда! Бывайте здоровы, братья-товарищи! Встретимся ишшо! Обязательно!
И Гришка еще сильнее взялся колотить коней и стал быстрее уплывать из красного круга в темную степь, и уже оттуда, из темноты, донеслась вдруг его совсем странная, даже и не мужичья, а бабья песня: «Лети-и-и, казак, ле-ети стрело-о-ою…»
Погромыхивая железной цепью по мерзлой земле, следом за Гришкой кинулся из бора черный кобель, за этим — другой, обгорелый, на трех ногах.
Смирновский, Устинов и Кудеяр молча смотрели на затухающий огонь… Вот он и амбарушку сожрал — груда угольев осталась, и снова нет продолжения его буйной жизни.
Смирновский сказал:
— Ну? Едем! — И пошел к розвальням.