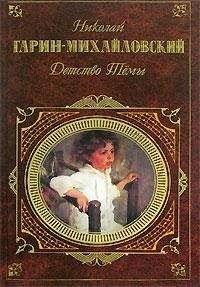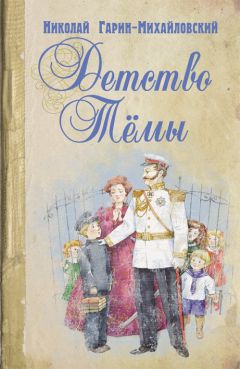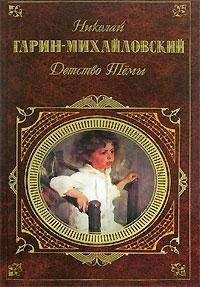Николай Гарин-Михайловский - Том 1. Детство Тёмы. Гимназисты
Как переменилось все с тех пор. Совсем другая жизнь, другая обстановка. А Корнева? Неужели он влюблен? Да, влюблен безумно, и чего бы он не дал, чтоб быть всегда с ней, чтоб иметь право смотреть смело ей в глаза и говорить ей о своей любви. Нет, никогда не оскорбит он ее своим признанием, но он знает, что любит, любит и любит ее. А может быть, и она его любит?! Иногда она так заглядывает в глаза, что так и хочется схватить, обнять… Жарко Карташеву среди снежной метели: полурасстегнуто пальто, и, как во сне, шагает он по знакомым улицам. Давно уж он ходит по ним. И лето и зиму шагает. Какая-нибудь радостная мысль в голове свяжется с домом, на который упадет его взгляд, и этот дом и потом будит память. И мысль эта забудется, а дом все чем-то притягивает к себе. Вот на этом углу он как-то встретил ее, и она кивнула ему и улыбнулась так, как будто вдруг обрадовалась. Зачем он тогда не подошел к ней? Она оглянулась еще раз издали, и сердце его замерло и заныло, и рванулось к ней, но он испугался, что она вдруг догадается, зачем он стоит, и он быстро пошел с озабоченным лицом. Ну, а если б она и догадалась, что он любит ее? О, это была бы, конечно, такая дерзость, которую ни она, никто не простил бы ему. Узнали бы все, отказали бы от дома, а Корнев какими бы глазами посмотрел бы на него? Нет, не надо! И так хорошо: любить в своем сердце. Карташев оглянулся. Да, вот и рождество, две недели никаких уроков, на душе и пустота, и удовольствие праздника. Он всегда любил рождество, и память связывала в одно и елку, и подарки, и аромат апельсинов, и кутью, и тихий вечер, и груду лакомств. А там, на кухне, колядуют. Они приходят оттуда с своими незатейливыми лакомствами: орехи, рожки, винные ягоды, им дарят платья, вещи.
Так шло всегда, сколько он помнит себя. В ярких огнях елки и камина, сейчас же после ужина, опять вдруг вспомнится любимая кутья, и он весело бежит и возвращается с полной тарелкой, садится против камина и ест. Наташа, его поклонница, крикнет: «И я». За ней Сережа, Маня, Ася, и все опять тут с тарелками кутьи. Не выдержит и Зина. Всем весело и смешно, и мать, нарядная, довольная, ласково смотрит на них. Что ему в этом году подарят? — подумал Карташев, звоня у подъезда.
На другой день вечером ему подарили фунт табаку и табачницу. И хотя он давно уже потихоньку курил, но теперь, получивши подарок, он долго еще не решался закурить при матери. И когда закурил, то с серьезным, озабоченным лицом сейчас же сел за подаренные Сереже сказки и начал внимательно читать их. Мать улыбалась, смотрела на него и, встав, молча подошла к нему и поцеловала его в голову. Он смущенно поцеловал ей руку и опять поспешно уткнулся в книгу. Кругом было обычное возбуждение и радость всех, а он думал: «Что-то теперь делает компания?»
Как раз в это время раздался звонок, и скоро в передней послышались топанье ног и веселый, уверенный голос Корнева:
— Эй, кто в бога верует, можно колядовать.
Раздался смех остальных: Рыльского и Долбы.
Карташев обрадовался товарищам, точно вечность не видался с ними. Он бросился в переднюю. Гости вошли. Аглаида Васильевна ласково встретила их:
— Вот это мило с вашей стороны.
— Ну, и отлично, — сказал Корнев. — А мы так думали, думали, да и решили к вам.
— Пожалуйста, — подсунул Карташев свой табак гостям.
— Это что?! Разрешение? Поздравляю!
— Ведь мы, надо вам знать, с третьего класса курим.
Корнев добродушно подмигнул Аглаиде Васильевне, принимаясь за папироску.
— Очень жаль.
— Да, конечно, очень, очень жаль… А-а, наше вам…
Вошли Зина и Наташа. Хотели было играть на рояле, но Аглаида Васильевна по случаю поста не позволила.
— Что ж мы делать будем? — спросил Корнев.
— Так сидите, вот чаю напьетесь…
— Мы всегда в этот вечер Гоголя или Диккенса читаем, — сказала Наташа.
И, подумав, она прибавила:
— Давайте Гоголя читать.
— Ну что ж, Гоголя так Гоголя, — согласился Корнев.
— Вы его заставьте, — сказал Долба, — он так читает, что вы лопнете от смеха.
— Ну, какое там чтение! — сконфузился Корнев.
Но его заставили, и он читал так, что и Аглаида Васильевна вытирала слезы от смеха.
Сидели, слушали и в то же время щелкали орехи, фисташки, миндаль. Потом подали чай. Карташев разошелся на скользком вопросе о религии, и дело дошло до маленького скандала.
— Для чего, собственно, совершенство? — рассуждал, как равноправный и взрослый, Карташев. — Всякое совершенство тем совершеннее увидит зло и придет в отчаянье, отчаянье — порок. А если оно равнодушно, то это вдвое порок… Бесчувственное.
— Тёма! Как ни неприятно, а я должна тебя попросить замолчать.
Карташев сконфуженно уткнулся в свой стакан.
— Это что ж, цензура? — спросил Корнев.
— Да, цензура, — ответила твердо Аглаида Васильевна.
Рыльский пригнулся к сластям и рылся в них.
— Цензура достигает цели? — спросил он, ни к кому не обращаясь.
— Да, вполне, — сухо ответила Аглаида Васильевна.
— Гм… — Рыльский поднял голову, скользнул взглядом по лицам товарищей и, сделав серьезное лицо, опустил глаза.
Карташев обиделся на мать, посидел немного и, встав, ушел к себе в комнату.
Разговор и оживление оборвались.
Когда окончили чай, гости один за другим тоже направились в комнату Карташева.
— Ты что лежишь? — спросил его Корнев.
— Так, — нехотя ответил Карташев.
— Эх-хе-хе, покурить, что ли? Эх, табак там оставили!
Карташев позвал Таню и приказал принести табак. Посидели еще, и Рыльский предложил:
— А не пойти ли нам к Дарсье?
— Так что? — встрепенулся Долба.
— Ну, останемся, — сказал Карташев.
— Идем, — уговаривал Корнев.
Карташеву и самому хотелось.
— Неловко перед матерью.
— Ну пойди, выдумай ей что-нибудь, — сказал Рыльский, — не тебя учить.
— Вот что, — предложил Долба, — мы скажем ей, что мы по очереди решили сегодня всех обойти… были у вас, а теперь к Дарсье… Ты вот что… ты брось дуться… Мы теперь опять пойдем как ни в чем не бывало в гостиную, и ты иди, а немного погодя мы и поведем линию.
Через полчаса компания, проделав, что задумала, и захватив Карташева, уже шагала к Дарсье. Аглаиду Васильевну уговорили даже отпустить его ночевать к Дарсье, так как все решили там остаться.
— Надо вот что, — говорил Рыльский, отворачиваясь от ветра, — надо, чтоб Дарсье послал за Берендей и Вервицким.
— У! Непременно! Черт побери, устроим ночное бдение! — воскликнул Корнев.
— А может, он спит, подлец? — спросил Долба.
— Кто, Дарсье? Нашел дурака. Он спит только во время чтенья.
У Дарсье любили собираться. Он хотя жил за городом, но в его распоряжении был целый дом, прекрасно меблированный. В другом доме, рядом, жила его семья, которая в изобилии снабжала его гостей всякой едой, не исключая и водки. Компания любила пройтись по маленькой, а Берендя постоянно обнаруживал склонность повторить. При появлении водки он оживлялся, желтые глаза его весело лучились, он возбужденно поматывал головой, говорил, острил и на эти короткие мгновения делался душой компании. Вервицкий не упускал случая упрекнуть друга, предсказывая ему будущность пьяницы, но тот, весело прицеливаясь глазами в него, загадочно говорил, поднося к губам вторую рюмку:
— Дурак ты.
— Ну, уноси, уноси! — командовал Вервицкий, — и веселая, франтоватая прислуга уносила на больших серебряных подносах граненые графинчики с водкой.
Такие закуски и чай со всевозможными сортами острых сыров и вкусных печений подавались обыкновенно, когда компания, начитавшись, утомлялась и начинала чувствовать какую-то пустоту внутри.
Этот момент всегда ловко угадывал Дарсье.
— А не закусить ли, черт возьми! — вскакивал обыкновенно он первый, выходя сразу из того летаргического состояния, в какое впадал при чтении.
Это воззвание к еде всегда было так весело, такой искрой пробегало по остальным, что чтение бросалось и все спешили только полнее отдаться приятному удовлетворению своего голодного желудка.
Дарсье в описываемый вечер был на половине своих родных, где на импровизированном балу усердно танцевал с своими кузинами.
Компания не любила общества Дарсье. Это все были красивые, затянутые барышни и безукоризненные франты-кавалеры. Их встречала компания на главной улице в часы гулянья в цилиндрах и цветных перчатках и при встрече с ними пренебрежительно фыркала.
Дарсье выскочил к товарищам и радостно, пожимая им руки, говорил:
— Черт, откуда вы? Идем к матери.
Но все наотрез отказались, как он ни уговаривал.
— Если ты занят, мы уйдем? — сказал наконец Корнев.
— Кой черт, занят! Ну, хорошо… подождите… я только пойду… скажу гостям, что… что им сказать? Постой! Я скажу, что умирает… Корнев, товарищ… приехали за мной.