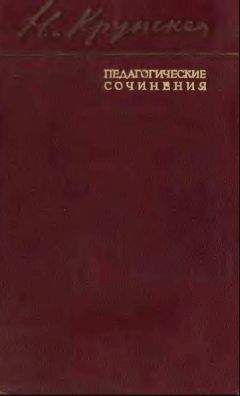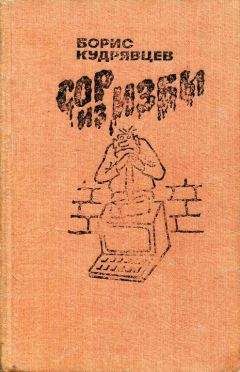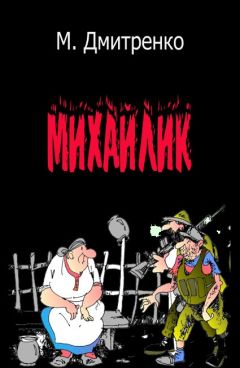Зинаида Гиппиус - Том 7. Мы и они
Почему-то именно после такого утра товарищ наш бесповоротно решился уехать. Почувствовал ли он тогда в первый раз жизнь и дыханье таорминской природы, которую упрямо продолжал видеть мертвой, и убежал, не желая уступить себе самому; действительно ли ему было скучно – Бог его знает; уехал угрюмо и дико, и чувствовалось, глядя на него, что ничто и никто ему не поможет.
Все шло по-прежнему, только солнышко делалось ярче и жарче, да порою откуда-то, точно снизу, долетала невидимая, густая волна сладкого запаха цветов Португалии. Fiori di Portugallo – здесь так называются апельсинные цветы. Таормина теплела, разрасталась, распускалась – и с каждым днем казалась мне все более грустной. Набегающие, бессмысленные людские волны, только не прекрасные, как волны моря, – шумели и отливали. Каждый день тянулись по извилистой белой дороге экипажи с людьми, которые уезжали, которые исчезнут навсегда, и отъезд их – такой же ненужный и нерадостный, как нерадостен был приезд. Налет серой грусти, как полузаметный слой пыли, лежит на сверкающей Таормине; ее не знают, она чужая, она не живая – для этих случайных людей.
Мы были с хозяйкой в городе в солнечный ранний вечер, и нас удивило уличное оживление.
– Как, синьора, вы не знаете? – сказала толстая женщина из макаронной лавки. – Сегодня большие процессии. И завтра, и послезавтра… Сегодня Страстной Четверг. Будет процессия с музыкой и зайдет в Сан-Доменико. Пойдут сверху. Да уж идут!
Мы возвращались от барона Г. и хотели зайти вместе к семье фотографа и вдове-генеральше. Но мы решили сначала пропустить процессию. Толпа все густела, теснила нас, и скоро мы очутились в узкой улице, около ворот, которые выходят одной стороной на площадь. Со стороны улицы, вверх, на ворота, соединенные со старой стеной, вела каменная лестница. Втиснутые толпой, мы вошли на ступени, до первой площадки. Видно было хорошо. Ниже нас, на ступеньках, тоже стали располагаться люди. От связки кирпич-но-розовых роз с кровавыми жилками, шел несильный, темно-вялый аромат; эти удивительные розы дал нам барон из своего сада. И полумертвый запах роз теперь смешивался с настойчивым ароматом апельсинных цветов. Они ярко серебрились в саду направо, за стеной.
Толпа все прибывала. Иностранцы-путешественники с биноклями, праздно глазеющие и растерянные, иностранцы оседлые, с деловым видом, опереточные певицы в жалких, ярких шляпах, средние туземцы – молодые люди, и, наконец, крестьяне, степенные, чинные, одетые в лучшие платья и платки, женщины с подобранными пышными юбками.
Впрочем, и среди крестьян почти не видно было умиления, скорее равнодушное исполнение долга и некоторое, небольшое, любопытство. Старик пастух, сгорбленный, на согнутых ногах глядел важно и благоговейно. На нем был синий холстинный костюм весь в заплатах и белые толстые чулки. Сплошная толпа не двигалась, процессия должна была выйти на главную улицу здесь, сверху, из маленького каменистого переулочка. Скоро послышалась отдаленная музыка, побежали дети, потом мальчики побольше, одетые в кисею, с толстыми свечами, которые горели бледным, едва видным огнем в предзакатном солнце. Несли знамена и флаги, похожие на военные. В процессии участвовали почетные лица города Таормины, одетые по-праздничному, с обнаженными головами. Военная музыка, та же самая, которая играла на таорминской площади по воскресеньям и состояла из шести или семи солдат-любителей, шла позади и громкие звуки марша уходили наверх, в светлый воздух. Потолок всегда давит, душит музыку, она должна говорить с небом. И будь она даже несовершенна, как детский лепет – она найдет свое малое единение с небом – и никогда не покажется оскорбительной. И теперь жалкие, простые аккорды почти неуместного марша давали минуте серьезную торжественность. Показалось духовенство, в кисейных ризах, тоже с толстыми свечами. А тотчас вслед, колыхаясь над толпою, двигалась черная деревянная фигура, большая, не много меньше человеческого роста. Носилки с возвышением, на котором утверждалась фигура, были сплошь унизаны круглыми фонариками из зеленого и розового стекла; внутри горели свечи, и фонарики издали казались грубыми цветами. Фигура колебалась, склоняясь и выпрямляясь. Это была статуя Марии Девы Скорбящей, из дерева, очень новенькая, ярко и свежераскрашенная, фигура стояла на коленях, в черном, как вакса, платье, с черным же покрывалом на голове. Резко выделялись ее сложенные на груди бело-розовые, большие руки да лицо, такое же бело-розовое, с ярким румянцем, с черными, похожими на маслины, глазами, смотрящими прямо, без выражения, с тупоумным равнодушием. Кроме того, казалось, что кукле неловко стоять на коленях, на носилках, – и она покачивалась вперед, точно кланялась. Бледно дрожащие бесчисленные огоньки свеч, торжественность на лицах, музыка, которая, кончив марш, играла теперь что-то иное, тихое, – грубые розы стеклянных фонарей, черная, чужая кукла, все – возбуждало смешанные чувства: в этом немудром символе, казалось, не было тайны, не было тишины и красоты; а между тем что-то и в свечах, и в длинных аккордах, и в серьезности людей – трогало забытые струны дальних, полусознательных воспоминаний, может быть воспоминаний того, чего никогда не было в жизни – и становилось на мгновенье жутко, терпко и холодновато, как бывает, когда смерть знаешь ближе к себе. В отношении к смерти, – не в мысли о смерти, а в чувствовании смерти – всегда есть и восторг и важная радость; и потому во всем, что важно и торжественно, и говорить о непонятном – есть это радостное, прохладное «чувствование» смерти.
Но мгновенье прошло; опять перед глазами лишь качалась черная, безжизненная кукла, колебались флаги и шелестела любопытная и разнообразная толпа. Процессия повернула, мы видели теперь лишь широкое темное пятно одежд Марии-Девы.
Музыка вблизи казалась слишком резкой. Толпа двинулась, гудя, за процессией.
Сан-Доменико был открыт и полон народа. Св. Деву поставили на минуту посреди церкви. Шли, прикладывались к черным деревянным одеждам и проходили. Одна женщина поцеловала стеклянный розовый фонарь, сделавшийся вдвое более ярким в полутьме церкви. Вблизи статуя казалась еще грубее, краски лоснились. Глаза были из стекла. Опять столпились около носилок, собираясь их поднять.
– Куда же вы? – крикнул нам знакомый художник немец, видя, что мы уходим. – Идет другая процессия Христос на кресте, а потом третья, San-Giorgio, Георгий Победоносец… Георгий совсем новенький, первый раз и несут… Вчера еще в церковных сенях в тряпках стоял, сам видел… На белом коне, змей толстый-претолстый, у копя ноздри красные, а у Георгия глаза голубее неба… Подождите!
Но мы не хотели ждать. Довольно было и одной процессии.
Визит генеральским дочкам не отнял у нас много времени.
Мы поднялись по лестнице, темноватой, во второй этаж небольшого, старого палаццо. Он стоял на главной улице, был из серого камня и мало чем отличался от соседних, таких же серых, домов.
Только широкий балкон с вычурными, выгнутыми перилами, был хорош, барышни, которые не выходят, постоянно сидят на этом балконе. Нас пригласили в громадный, мрачный, полутемный салон. Тут было неуютно, почти холодно. Зимой сюда не заходит солнце и так как другим способом таорминские дома, особенно старые, не отапливаются, то салон этот на холодное время запирают. В убранстве было смятение тусклых, древних вещей с дешевыми безделушками, лишенными всякого вкуса.
Генеральша села на диван. Дочери принесли каждая по стулу и сели напротив, тесным рядом, по старшинству. Они все были похожи одна на другую, с одинаковым выражением скуки и мелочности на грубоватых лицах. Старшей казалось уже лет за двадцать пять, молоденькая была веселее. Пришла пятая, еще подросток, и села в ряд. Мы посмотрели старинные, всегда завешенные, картины. Они были ни хороши, ни дурны. Потом нам показали карточку генерала в соломенной рамке, перевитой крепом. Потом генеральша стала говорить о дороговизне жизни. И хотя она жаловалась – все время из-под любезно-жалобных слов чувствовалось, что она говорит несерьезно и ни на минуту не забывает, что перед ней иностранцы.
В семье фотографа было проще. Тут жила старуха, дочь ее, пожилая девушка, и другая дочь с мужем и новорожденным ребенком, у которого была кормилица. Все они помещались в двух, просторных комнатах, во втором этаже одного из домов крутого переулка. В первой комнате, проходной, жили мать, дочь и ребенок, вторая принадлежала супругам и играла роль салона. Мужа, того самого, который год тому назад увез сестру фотографа и обвенчался с нею в Калабрии, – не оказалось дома. Он служил по юридической части. Супруга была маленькая, юркая и немолодая. Старуха, одетая в темное, по-крестьянски повязанная платком, встретила нас приветливо, но строго. Мы сели к столу посереди супружеской спальни. Незамужняя дочь усадила старуху в кресло, принесла домашнего вина и неприятных, безвкусных лепешек, которых непременно нужно было отведать и даже съесть больше.