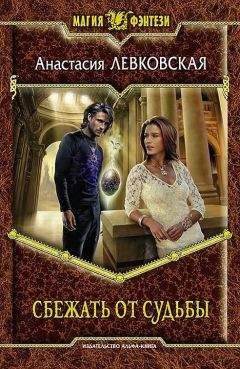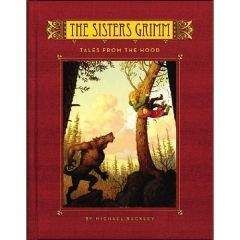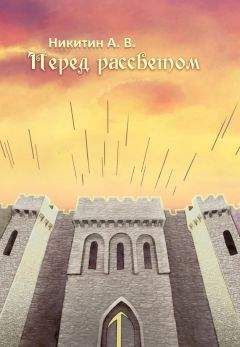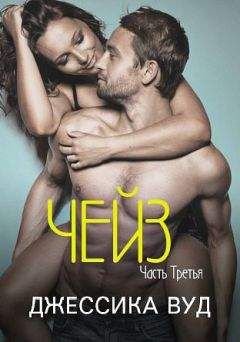Михаил Волконский - Воля судьбы
Что-то давно знакомое, милое, деревенское схватило за сердце Артемия, и он невольно пустил свою лошадь шагом.
"Что это?" — остановился вдруг он, невольно обернувшись в сторону решетки.
Там стоял кто-то в белом платье, и Артемий сейчас же узнал, кто был этот кто-то.
Ольга стояла, опершись руками на решетку, и, положив на них подбородок, смотрела прямо на него. Глаза их встретились. Артемий видел, что она узнала его…
Их отделяли только одна неширокая канава, часть дороги и решетка.
Артемий видел, что княжна узнала его. И что ему было делать? Он снял шляпу и поклонился. Она, весело улыбнувшись, ответила ему, наклонив голову, и проговорила своим звонким, милым голосом, — голосом, которого Артемий не слышал столько лет.
— A я узнала вас сейчас же… Я помню вас по Проскурову, — добавила она, видимо, обрадовавшись Артемию, как старому знакомому, но только как знакомому, — не больше.
"Забыла, все забыла!" — пронеслось в голове Артемия, и, несмотря на то, что он почувствовал, что не следует делать это, он притянул к себе поводья и остановил окончательно лошадь.
— А вы… — проговорил он в свою очередь, не узнавая звука своего голоса. — Хотя вы и очень и_з_м_е_н_и_л_и_с_ь, но я тоже узнал вас сию минуту.
Он нарочно подчеркнул слово «изменились», следя, какое это произведет действие на Ольгу; но она словно и не заметила этого.
— Неужели я переменилась? Говорят, напротив… А вы — уже офицер, и мундир вам очень идет… Вы давно в Петербурге?
— Нет, недавно. А вы?
— Мы тоже недавно — почти только что приехали, и теперь вдруг, несколько дней тому назад, батюшка велел снова укладываться… и мы опять собираемся в деревню.
— Как? Только что приехали и опять назад?
— Так угодно батюшке.
— Когда же вы едете?
— Не знаю, на днях — может быть, завтра, может, послезавтра…
"Боже, как это глупо!" — думал между тем Артемий, чувствуя, что они ведут какой-то нелепый, нескладный разговор, когда они после стольких долгих лет разлуки опять наедине и когда ему так много, много хочется сказать любимой девушке!
Но он не мог сказать ей так сразу все, что ему хотелось и что поглощало все его мысли теперь, а думать о другом он тоже не мог и потому говорил, что приходило на язык.
— А вам п_о_н_р_а_в_и_л_с_я Петербург? — спросил он.
Его слова спрашивали: "Вам понравился Петербург?" — но выражение их говорило: "А у вас нет здесь никого, у вас здесь нет ничего, что притягивало бы вас к Петербургу или, напротив, манило бы назад в деревню?"
— Нет, не понравилось мне здесь, — ответила Ольга совсем просто, — в этом городе душно как-то… ужасно душно… Я вот люблю сюда, к задней решетке сада приходить, тут больше на деревню похоже… Нет, я люблю деревню больше города…
— А у вас этот сад большой?
— Да, но все-таки меньше, чем в Проскурове; зато он почти весь тут цветами усажен…
"Нет, не могу я дольше говорить так!" — решил Артемий и, несмотря на это свое решение, все-таки не сказал прямо, что думал, а спросил:
— Розаны… розаны есть здесь у князя?
На высоком, красиво округленном лбу Ольги между бровей появилась складка, которая служит у человека признаком напряжения и усилия, когда он с трудом вспоминает что-нибудь, хочет и никак не может припомнить.
Она помнила Артемия по Проскурову, как сказала она ему, но помимо, этого она еще чувствовала, что должна была помнить еще что-то, но что именно, она не знала и не могла дать в том себе полный отчет.
Теперь, при звуке его голоса и в особенности, когда он сказал о розах, в голове у ней, словно молния, мелькнуло какое-то неясное, болезненное воспоминание; но это было именно болезненное, крайне тяжелое ощущение, которое исчезло промелькнув, и снова она ничего не знала и не могла ничего вызвать из прошедшего, кроме того, что так помнила.
— Да, как в Проскурове, — ответила она опять с прежнею простотою на вопрос Артемия о розах.
Он взглянул на нее так, что, казалось, его жизнь зависит от того, как она посмотрит на него теперь, но она смотрела невинными и ясными глазами прямо ему в лицо, и эти глаза не выражали ничего особенного.
Что ж это было? Насмешка, резкий и подчеркнуто-определенный намек на то, что все прежнее забыто, окончательно вычеркнуто из памяти? Но тогда было проще сразу уйти и не отвечать на поклон и не разговаривать. За что же так безжалостно мучить и казнить человека?
"А если так, то что ж теперь делать? — подумал Артемий. — Уйти, скорей уйти… иначе с ума сойти можно, если хоть миг, хоть секунду продолжится эта пытка!"
И, как утопающий инстинктивно ловит воду руками, сжимая их, чтобы спастись, он невольно, не отдавая себе отчета в том, что делает, толкнул лошадь шпорами. Она двинулась вперед. Артемий не ожидавший этого движения, качнулся на седле и, чтобы не свалилась его треугольная шляпа, схватился за нее рукою. Раз она была у него в руке, он поднял ее для поклона.
— До свиданья! — сказал ему голос Ольги.
Он крепче всадил свои шпоры и, справившись с затоптавшеюся лошадью, поехал вскачь вперед по поросшей травою дороге, чувствуя, что глаза Ольги смотрят ему вслед.
Лошадь, не чувствуя дальнейших понуждений, скоро перешла из размашистого галопа в рысь и потом в шаг. Однако Артемий не заметил этого. Опомнился он только у городской рогатки, и потому только, что солнце начало сильно греть его, и он, зметил, как высоко успело оно подняться, сообразил, что потерял слишком много времени и опоздает на мызу, где может не застать уже графа.
Все, только что случившееся, казалось ему как бы происшедшим во сне, словно он был теперь не наяву, а в грезе; но страх не исполнить вовремя поручение отрезвил его.
Времени оставалось слишком мало, чтобы принять обыкновенную предосторожность, соблюдавшуюся при поездках на мызу, то есть взять направление не по прямой дороге, где могут быть неудобные встречи, а ехать окольным путем. Артемий решил ехать прямо и погнал лошадь во всю скачь.
Полпути он не давал ей вздохнуть. Оиа стала ослабевать. Артемий почувствовал, что не рассчитал ее сил и не соразмерил их с расстоянием. Нужно было во что бы то ни стало сделать остановку.
Он знал, что тут близко должен быть заезжий двор и рассчитывал на него.
У двора, когда подъехал к нему Артемий, стояла сломанная одноколка.
"А! — подумал он, — тут есть проезжий кто-то. Отлично! Я узнаю у него, может быть, который теперь час".
И он соскочил с лошади, крикнув дворника.
Проезжий, у которого Артемий намеревался узнать который час, был итальянец Торичиоли.
XII
НЕОСТОРОЖНОСТЬ
— А… вот кого я вижу, — встретил Торичиоли Артемия, который входил нагибаясь в низкую дверь придавленной потолком горницы заезжего двора.
Итальянец сидел в почетном углу у чистого, выскребленного липового стола, на котором стояла пред ним крынка с молоком и лежал большой кус хлеба.
— Вот давно не видались, — продолжал он, — с самого вашего приезда… Ну, где вы и что вы? Как устроились в Петербурге, как живете?…
Торичиоли, у которого сломалась одноколка, волей-неволей обреченный судьбою на то, чтобы пробыть на заезжем дворе, пока не починят ему экипажа, пробовал было развлечься, спросив себе крынку молока, но теперь для него в лице Артемия явилось еще более интересное развлечение, и он очень обрадовался ему.
Но Артемий довольно холодно ответил на его приветствие. Ему вообще в том состоянии, в котором он находился, был неприятно встретиться с кем-нибудь, а еще более со знакомым. Нужно будет разговаривать с ним, отвечать на его вопросы, а Артемию именно хотелось, чтобы его оставили в покое.
— А Эйзенбах-то, Карл, которого мы с вами считали мертвым — помните, еще рассказывали мне подробности, — продолжал Торичиоли, — жив ведь оказался. Он вернулся в числе возвращенных пленных… его старички-родители так были рады.
— Да? — равнодушно сделал Артемий и, пройдя мимо стола, сел не к итальянцу на лавку, а дальше, в противоположный угол.
"Он сердится, зачем я до сих пор не отдал ему его денег… с самого Кенигсберга… Вот оно что!" — сообразил Торичиоли, но сейчас же поспешил успокоить себя тем, что теперь он не может отдать свой долг, но отдаст, как только сможет.
И с видом тоже вполне равнодушным он принялся есть круглою, деревянною ложкой свое молоко.
— Который час, Иосиф Александрович? — спросил Артемий. — У вас есть часы?
Торичиоли не спеша вынул часы и сказал, который час.
Было вовсе не так поздно, как думал Артемий: прямою дорогой и быстрою ездой он наверстал столько времени, что мог уже не торопиться.
Это успокоило его по отношению к поездке, но совсем успокоиться он, конечно, не мог! В его глазах все время стояла Ольга. Она казалась ему такою прекрасной, какой он даже в мечтах не помнил ее. Сегодня она была особенно хороша — и как белое платье шло ей, и как красиво облокотилась она на решетку, и зелень кругом, и самая решетка эта, и все было красиво!