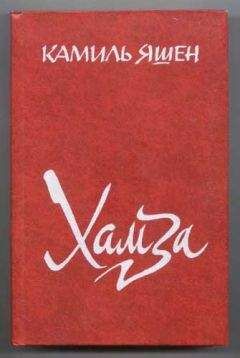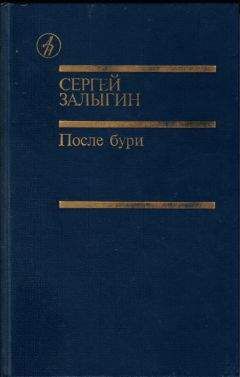Петр Краснов - Ложь
– Хорошо, Магдалина Георгиевна, я, знаете, тороплюсь. Сколько?..
– На этот раз надо двенадцать… Меньше не отступлюсь…
– Ох!.. Много хотите… Магдалина Георгиевна… Я дам. Но, помните, исполните все, что я вам прикажу.
– Полноте, Лазарь Максимович, кому говорите? Разве я не понимаю. Расписочку написать?..
– Не нужно.
Дуся пошла за Лазарем Максимовичем в кабинет:
– И что вы скупитесь, – сказала она. – Не свои же даете… А накурено!.. И сигары хорошие какие!.. Кто-то был у вас… Два окурка с разных сторон пепельницы…
– Наблюдательны.
– Тем и живу.
Лазарь Максимович подошел к тяжелому несгораемому шкафу, стоявшему в углу, открыл дверцы и отсчитал двенадцать пестрых билетов. Дуся жадно следила за движениями Лазаря Максимовича.
– Извольте.
– Что же я должна теперь делать?
– Пока, ничего. А там я вам скажу. Вызову, когда нужно будет, по телефону и скажу.
– Благодарствую… Какой вы сегодня, Лазарь Максимович, неласковый и серьезный. А я для вас хорошие советские стихи Лебедева-Кумача выучила, приготовила вам прочитать…
– Ну их!.. Я на Пушкине воспитан! Прочтите их на ближайшем эмигрантском вечере…
– Какой вы сегодня ехидный!
– Дела много, Магдалина Георгиевна.
– Не медведь дело-то, не убежит… Так не стану вас больше утруждать… Дуся небрежно скомкала кредитные билеты и спрятала их в сумочку.
– До свидания… Пока!..
– Пока!..
Лазарь Максимович проводил Дусю до лифта, но Дуся отказалась от машины:
– Не люблю я этих лифтов-то. Замирание сердца у меня от них делается. Я пешком, по ступенечкам…
Каблучки новых башмачков из змеиной кожи бойко застучали по деревянным, полированным ступеням широкой темноватой лестницы.
XIII
С приближением весны, на заводе, где работал Акантов, заговорили о новых увольнениях рабочих за отсутствием заказов. Пошли темные слушки, что увольнять будут тех, кто не состоит в Société générale travailliste, мощной коммунистической организации, возглавляемой monsieur Jouhaux. Заволновались русские рабочие. Все они, бывшие русские офицеры, два с лишним года сражавшееся с коммунистами в России, унесли с собой и заграницу непримиримость с большевиками, должны были идти туда, где, как рассказывали, в приемной были развешены красные флаги с серпом и молотом и висел большой портрет Сталина, а на столе были разложены на красном сукне коммунистические брошюры на различных языках, в том числе и на русском. Там сидели молодые люди семитического вида и расхваливали достижения Советского Союза.
Акантов пошел справиться в администрации завода: правда ли, что увольнять будут только тех, кто не состоит в рабочем союзе… Солидный инженер-француз развел руками и сказал:
– Mais, mon ami, увольнять нам приходится. Мы сами этому не рады. А что до союза, нам до него нет никакого дела. Конечно, иногда rien à faire[78], ладить с ним как-то приходится. Но, ведь, есть еще и христианский рабочий союз; почему вы, русские, не поступаете туда?..
В те дни в воздухе по всем мастерским висело это угрожающее «rien а faire». Запуганные, затравленные нищетою и непосильною работой, многосемейные, рабочие искали выхода.
Раздавались голоса:
– Что поделаешь? Назвался груздем, полезай в кузов. Ведь, мы, господа, стали форменными пролетариями; значит, и коммунизм как-то принять нам приходится, – так говорил пожилой человек, явно пораженный чахоткой, в прошлом доблестный офицер одного из славных полков.
– И, скажу вам, господа, не так это, в данном-то нашем положении, и плохо. Коммунисты – за нас, за рабочих… Мне говорили, что это именно правые требуют сокращения числа иностранных рабочих и более тяжкого процентного отношения в предприятиях, а коммунисты, они мне сами это говорили, ничего не имеют против нас, вранжелистов…
– А вы были у них?..
– То есть?.. В порядке разведки… Справлялся…
– Под портретами Ленина и Сталина подписку давали?
– Не заметил таких портретов… Кажется, там видел в дешевой черной раме портрет Маркса. Этакая дремучая, бородатая рожа старой обезьяны…
– А с правого бока Сталин подмигивал вам лукаво.
– Значит, и вы там были?
– Значит! И скажу вам, отчего нам не идти в христианский союз?
– Ну, полноте! Что вы говорите! Какую цену может иметь этот союз во французской рабочей среде, где все материалисты. Он никогда вас так не защитит, как C.G.T. Ведь, C.G.T. это второе правительство Франции, и даже более сильное. Оно за рабочих, а мы не офицеры, но рабочие…
– Разум говорит – да, а совесть и сердце – нет.
– Не будем, однако повторять ошибок прошлого. Пошли бы сразу в совет рабочих и солдатских депутатов, и …
– И… были бы теперь расстреляны, или покончили бы с собой самоубийством.
– Э!.. Нет!.. Если бы все пошли туда, может быть, общими дружными усилиями повернули бы руль направо и выровняли бы крен государственного корабля… А то пошли только отбросы…
– Да что вы говорите, чего не знаете… У большевиков осталось большинство нашего командного состава, и далеко не отбросы… Поливанов, Брусилов, Химец, Багратион, Зайончковский, Тухачевский и многие другие… Где они, что они могли сделать?.. Одни умерли от тоски и сознания своей ошибки и подлости, другие расстреляны, или погибли в тюрьмах… Иные сами покончили с собою…
– Да, сила солому ломит.
– Когда солома гнилая…
И опять послышалось это безнадежное, фаталистическое, «rien а faire», – ничего не поделаешь…
В обеденный перерыв и вечером, когда, по гудку, расходясь, толпились на заводском двору рабочие, и русские сходились вместе, слушал Акантов эти разговоры и думал о тяжкой доле русского офицера. Сам он не пошел писаться в коммунистический союз, и, фатально веря в свою судьбу, продолжал работать.
Весною, под самую Русскую Пасху, с завода уволили несколько сот человек. Уволили и тех, кто записался в C.G.T., и тех, кто остался свободным. Увольняли преимущественно старых и болезненных людей. Уволили и того русского, чахоточного, который заступался и верил в могущество союза, и союз за него не вступился…
– Rien à faire!..
Ему дали шомажное пособие, как безработному. Но с семьей на него не проживешь. Государственная демократическая машина пустила его и его семью по миру, умирать от недоедания…
Уволили и Акантова.
XIV
Самое жуткое для Акантова в эти дни, после увольнения, было отсутствие работы, дела… Всю жизнь Акантов был занят. Служил, воевал, ломал походы, строил укрепления, наблюдал за порядком службы, командовал, приказывал, обучал, ездил хлопотать о довольствии; потом был жуткий промежуток времени, когда все перемешалось: была эвакуация, беженство; время это прошло, как кошмарный сон. Затем, был наем по контракту на завод, и работа… работа… работа… Она притупляла нервы, глушила потребности, усыпляла мозг, обращала человека в машину. Но она отнимала и время, и некогда было думать и задумываться…
И вдруг стало так много времени, что некуда было его девать, некуда было приложить свои знания, силы и время, время!.. С квартиры в Биянкуре, где все напоминало кратковременное пребывание у него дочери, Акантов не съехал. Пока квартира была оплачена, было где ночевать. Кончится срок уплаты, ночевать придется, где попало… С удивительным спокойствием помнившего походы офицера, не раз смотревшего в глаза смерти, Акантов думал: наступит лето. Наступит тепло, ну, и… Можно ночевать под открытым небом… Под мостом, на набережной Сены, на скамейке в Булонском лесу… «Ну, что же», – думал Акантов, – «вспомню боевые бивуаки… Пойду бродить по окрестностям, искать по фермам, не наклюнется ли там какая-нибудь «работишка»…
Голода он не боялся. Успокаивал себя научными фельетонами, доказывавшими, что есть человеку нужно очень мало и что можно, и даже полезно, подолгу голодать. Еда, это – чепуха. Только перетерпеть привычный час завтрака или обеда, когда запротестует неудовлетворенный желудок, а там, и пройдет. И даже легче станет…
Но и голодать не пришлось. Оказалось, что есть русские благотворительные столовые, где кормят даром… Он пошел. Увидел светлые, приветливые лица бедно одетых дам. Дамы раздавали куски хлеба, тарелки горячего супа с куском мяса, стаканы чая; увидел кругом себя таких же обездоленных, как и он сам, евших людей: были тут и генералы, дрожащими руками принимающие глиняную тарелку дымящихся щей, были и сенаторы со слезящимися от голода, волнения и стыда глазами, просящие накормить; увидел и просто опустившихся, беспутных людей, согретых христианской любовью в просторном бараке столовой, под иконой Спасителя. Увидел, познал, что есть горе больше его, и успокоился: не пропадет!.. Не в голоде было дело. Тоска была – во времени. Некуда было его давать…
Скучно и муторно было от мыслей.
«Работишка» не наклевывалась.
Куда ни придет, везде один вопрос:
– Вам сколько лет?
– Под шестьдесят…
– Сознайтесь, больше?! Нет, не годитесь. Старых не принимаем… На местах ночных сторожей, хранителей буржуазных замков, банков и вилл крепко сидели такие же старики, как он: прокуроры, генералы, профессора, и цепко держались за свои места. Не спали по ночам, ползали снизу на пятый этаж, бродили по пустым залам банков, мимо закрытых касс, отмечали свои обходы по контрольным часам. И какие горькие думы передумали они в эти долгие ночные часы странствий по пустому громадному храму золотого тельца, знает один только Господь Бог!..