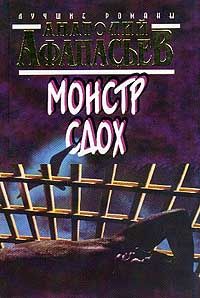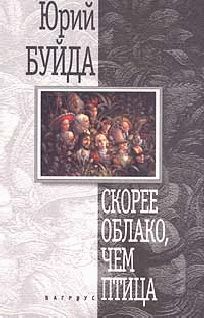Владимир Кораблинов - Прозрение Аполлона
И темнели безоблачные белогвардейские небеса, где реял малиновый звон церковных колоколов и банкетных бокалов. И бешенством искажалось изрытое оспой, длинное, волчье лицо его превосходительства…
Профессор проснулся внезапно, как от толчка.
Под грязным сводчатым потолком скучно тлела пыльная двадцатисвечовая лампочка. Ее жалкие красноватые нити испуганно дрожали, то почти совсем померкая, то разгораясь вполсилы.
Люди спали беспокойно, охая, ворочаясь на холодном цементном полу. Закутавшись с головой рогожными лохмотьями, хрипло дышал, постанывал Степачыч. Милиционер бормотал во сне: «Катя! Катюшка…» Во дворе, возле отдушины, тоненько, жалобно скулила собачонка.
Гм… Интересно, который час?
Аполлон привычно сунул руку в карман, за часами, – карман был пуст. Обшарил все, поискал глазами по полу, возле логова – никаких следов. Украли? Не, может быть, не та публика. Ах, значит, те, что обыскивали у входа, на лестнице, двое в залихватских фуражках с кокардами… Ничего себе для начала. Армия-освободительница! Га! Пока что освободила от часов. А дальше? Посмотрим, посмотрим…
Все-таки сколько же сейчас может быть времени?
«А что мне время? – подумал Аполлон. – Не все ли равно – двенадцать ли, два или пять? С нынешнего дня я арестант, казенный человек, своему времени не хозяин… «От тюрьмы да от сумы»… Вполне житейская мудрая поговорочка.
Посадили, значит. Ничего удивительного, со всяким может случиться, пока существуют партии, правительства…»
За свою почти пятидесятилетнюю жизнь ему ни разу не довелось побывать за решеткой. Тюрьму лишь понаслышке знает, из книжек – «Граф Монте-Кристо» и прочее: сводчатые потолки, каменные ступени подземелья, чугунное кольцо, ржавая цепь… еще что? Ах да – крысы, солома вместо постели, таинственные надписи, нацарапанные на стене, мерные шаги часового…
Здесь кольца нет, крыс – тоже. Пока. А вот соломки не мешало бы подбросить… Эта угольная пылища!
Таинственные надписи… гм…
Над самой головой, возле отдушины, что-то и в самом деле нацарапано. Ну-ка, ну-ка, любопытно… Приподнялся и разглядел: «32 пу 14 фу». Только-то и всего?
A собачонка скулила, скулила…
Хорошо все-таки, что Агния в деревне. Вот бы переживала! А Ритка? Ну, Ритка, Ляндрес – это народ особый. Новый. Новейший даже. В их глазах он, профессор, конечно, вырос бы сразу голов на десять. Еще бы: арестован белыми, следовательно…
А что – следовательно? В том-то и дело, что ровным счетом ничего-с.
– Ни-че-го-с!
Он, видимо забывшись, это вслух произнес, потому что товарищ Абрамов, лежавший рядом, зашевелился, поднял голову.
– Спать надо, – сказал. – Черт его знает что нас завтра ждет… Спать!
Укрылся пиджаком и глухо, точно из погреба, пробормотал:
– Сил набираться…
Опять заплакала собачонка, опять заскулила. «У, пропасти на тебя нету!» – злым, сонным голосом сказал кто-то на дворе. Затем негромко, сухо щелкнул выстрел. Плач оборвался, собака замолчала, словно подавилась.
Новые звуки стали доноситься со двора: ведром загремели, лошадь заржала, два голоса родным матерком перекинулись, засмеялись. «Наверно, дело к рассвету, – сообразил Аполлон, – лошадей пошли поить…»
Итак, Ритка, Ляндрес. Новые люди. Но почему она не пишет до сих пор? Пора бы. Впрочем, это, очевидно, не так просто – фронт, война. Почта, конечно, сейчас работает с перебоями, это естественно.
А Ляндрес? Где он сейчас? Сотрудник большевистской газеты, еврей… Вот уж ему-то никак нельзя попадать в лапы белой сволочи…
Чудной малый! Поэт. Как это он тогда читал: «Ночей топоры остры…» Непонятно. Но, кажется, в его топорах больше смысла, чем в Агнешкином «пламенном снеге»… «Он был черный и пламенный снег»! Га-га-га!
Товарищ Абрамов опять заворочался.
– Ну и неугомонный же вы человек! – прогудел как из погреба. – Спать, спать!
– Виноват, – сказал Аполлон и послушно улегся на свое громыхающее ложе.
В оконце засинел рассвет.
А Ляндрес бежал, задыхался, хрипел. Понимал, что еще минута-другая – и не выдержит, упадет. За ним гнались. В ночной тишине гулко бухали тяжелые солдатские сапоги. Дважды стреляли – по нему или в воздух? Вернее всего, по нему. И это еще придало силы, в нормальных условиях он черта с два сумел бы так бежать.
Бег начинался от угла Пролетарской и Карла Маркса. Именно здесь, к надтреснутому стеклу витрины кондитерской Мулермана, он прилепил листок «Крутогорской коммуны». Именно здесь, совсем недавно, за два-три дня до Ритиного отъезда, она вдруг сказала:
– Ах, Фимушка, никого нет на свете лучше тебя…
И, вздохнув прерывисто, как после долгого плача, поцеловала.
Вселенная со всеми своими звездными мирами вмиг перевернулась и исчезла, как исчезает в тире со стенда метко сбитая мишень.
Оглушенный и ослепленный, безмерно счастливый, стоял он, прислонясь к мулермановой витрине. А когда звездное небо стало на прежнее место, ее уже не было Только дробный стук каблучков раздавался во тьме, замирая.
На другой день он кинулся в военкомат, умоляя включить его в список вместе с теми комсомольцами которых отправляли на фронт. Ему отказали. И он целых два дня не мог решиться разыскать Риту, боялся, что та ночь и поцелуй у витрины – все это было во сне, что, встретясь с Маргаритой, очнется, и окажется: ничего не было.
И открыл ей это лишь на вокзале, на проводах, когда рычали оркестры и в четыреста глоток гремела комсомольская песня.
– Милый ты мой дурачок, – сказала Рита. – А я так ждала тебя… так ждала!
Обычно с расклейкой газеты отправлялся Степаныч, но вчера он ушел и не вернулся. Собачка Троля прибежала на рассвете, жалобно, тревожно повизгивала, слезящимися глазами упрашивала идти куда-то, очевидно туда, где сейчас находился Степаныч.
Позднее пришел Дегтерев, сказал, что видел собачку возле «Гранд-отеля». Лежала у ворот, верно дожидалась хозяина, как, бывало, в дни получки дожидалась у порога какой-нибудь пивнушки.
– Дело ясное, – сказал Дегтерев. – Попался наш Степаныч. Ну что ж тут раздумывать, Ефим Абрамыч, готовьте листки. Вечерком пойду прогуляюсь по городу.
– Как?! Вы?
– А разумеется, я.
– Нет, – сказал Ляндрес, – это несправедливо. Этого я не могу допустить. Вы и так каждый день по шестнадцать верст делаете, ночью-то хоть отдохните.
– Но кому-то же ведь надо идти, – возразил Дегтерев.
– Я пойду.
– Ну нет, вам-то уж никак нельзя, если попадетесь…
– А вас что, четвертым крестом наградят? – засмеялся Ляндрес. – Никаких разговоров, слышите, господин полковник?
Он вышел поздно, за полночь, близко к рассвету. Тихо, безлюдно было в городе. Ляндрес шел, мягко, неслышно ступая войлочными туфлями. «Весна, Революция, Рита…» Длинными волнами переливалась торжественная и прекрасная музыка ночной тишины… И звездное небо было точно такое, как тогда, у витрины кондитерской Мулермана… И именно здесь, к надтреснутому стеклу, хлебным мякишем прилепил Ляндрес первый газетный листок.
В этот момент из-за угла, с Пролетарской, вышли трое патрульных.
И начался бег.
Всю ночь не спал Денис Денисыч, сидел у постели умирающей. В ее сухоньком теле еще теплилась жизнь, еще шевелились, силились что-то сказать синеватые, бескровные губы, вздрагивали, чуть приподнимались веки. Но костлявые пальцы рук все холодели, все холодели, и это с ужасом и тоской чувствовал Денис Денисыч, гладя их, пытаясь их согреть.
Раза два она вдруг еле слышно, невнятно позвала:
– Де… ня…
Но ничего сказать не смогла, лишь шевелила губами.
– Я тут, с тобой, – шептал Денис Денисыч. – Милая моя, родная старушка…
Перед рассветом она успокоилась. Денис Денисыч испугался – не умерла ли? Нет, заснула: едва заметно, но дышит, на виске медленно, слабо бьется голубоватый живчик. Неужели конец? Для него, одинокого, беспомощного в житейских делах, она была все – ласковая мать, заботливая нянька, милый друг, тепло родимого дома, душевный покой.
Как же ему теперь, без нее-то?
Распахнул окно. И тотчас как-то особенно резко рядом хлопнули два выстрела. Вспугнутые галки загалдели над колокольней. Денис Денисыч выглянул на улицу. От угла, прижимая к груди какой-то сверток, бежал человек, изнемогая, почти падая. Поравнявшись с открытым окном, протянул руки, отчаянно, безмолвно прося о помощи. Не рассуждая, так ли, разумно ли он поступает, ни секунды не теряя на сомнения, Денис Денисыч поймал эти руки, втащил человека в комнату, тотчас прикрыл обе створки окна и задернул занавески. Человек, хрипя, повалился на пол, уронил сверток. Знакомые всему городу желтенькие листочки рассыпались по ковру.
На улице тяжко прогрохотали подкованные сапоги.
Утром Денис Денисыч встретился у водопроводной колонки с домохозяином Пыжовым.
– Слыхали, Денис Денисыч, – приподымая картуз, сказал Пыжов, – какая ночью на улице баталия была?