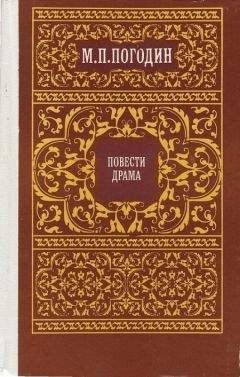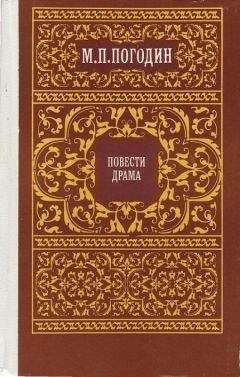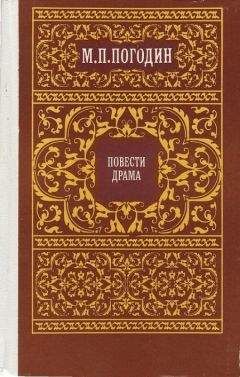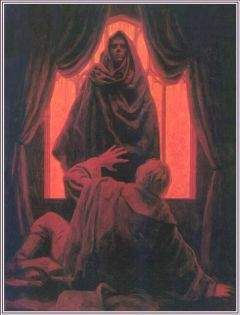Михаил Погодин - Черная немочь
На что же дарованы мне сии чудесные человеческие способности? Верно, на какое-нибудь великое употребление, верно, я должен делать с ними что-нибудь другое, не похожее на действия животного с своими?
Они могут возрастать, улучшаться, тупеть; младенцем повиновался я первому движению, — теперь слышится во мае голос рассудка, который указывает мне, что я должен делать, чего не должен; прежде не умел я перечесть четырех, не понимал разницы между причиною и действием, забавлялся игрушками, сердился за безделицу, — теперь утверждаю, отрицаю, наслаждаюсь природою, восхищаюсь словами спасителя, повелевающего любить врагов и благословлять клянущих.
Точно, точно — человек должен возделывать свои способности, должен работать над собою, воскликнул я себе торжественно. Вот достойное ему занятие на всю жизнь. Я не должен быть на пятидесятом году тем, чем я есмь теперь.
Все спи мысли с быстротою молнии пронеслись в моей голове одна за другою, скорее, нежели я пересказал их вам теперь. Как будто тяжелая гиря свалилась с моего сердца. Я отдохнул, довольный своим заключением; долго потом размышлял я о причинах, доведших меня до оного, и совсем позабыл настоящее свое положение, совсем потерял из виду те препятствия, которые встретились мне тотчас, когда дело дошло до исполнения моих новых желаний.
В таких размышлениях я не мог, разумеется, заниматься своим делом: часто за простую бахрому запрашивал я столько, сколько надо взять за лучшее кружево, бархат продавал одною ценою с ситцем, отсчитывался, сдавал лишние деньги; и если бы товарищи, любившие меня от всего сердца, не старались накрывать моих проказ от батюшки, то я беспрестанно подвергался бы великим опасностям. Впрочем, они считали меня помешанным, пред моими глазами в таких случаях пожимали плечами, перешептывались между собою и вслух почти изъявляли свое сожаление. Я не обращал внимания на их суждения и продолжал думать свою крепкую думу.
Все утверждало меня в прежней догадке. От общей мысли я обратился именно к себе: как за прилавком могу я возделывать свои способности? здесь чувствуют удовольствие только от барышей, думают о барышах, действуют для барышей. Здесь притупеют мои способности, точно как притупели они во всех моих товарищах, которые прежде, верно, думали по-моему.
Стало быть, торговля мешает человеку достигать своей цели!
Не может быть: если бы она не была необходима, то не могла бы и возникнуть между людьми, а необходимое не мешает. Лучше ли ее другие знания? Нет: разве судья не употребляет своего времени на решение чужих споров? Разве крестьянин не орошает кровавым потом земли для нашего прокормления? Разве солдат не учится и не дерется для защиты отечества? Разве ученый, забывая себя, не учит других? Всякое звание, очевидно, необходимо в обществе, и между тем у всякого есть забота, которая мешает ему посвятить себя исключительно на усовершенствование своих способностей…
Нет, нет, я ошибаюсь. Ничто не может мешать человеку. Сии заботы, сии препятствия должны, верно, служить только к возбуждению его деятельности, к укреплению его силы, к возвышению его духа; должны служить ему лестницею на небо. Может быть, без них, избалованный и вялый, он обленился бы на долгом пути своем и заглох, как стоячая вода. С богом боролся Иаков, и спаслась душа его.[11]
…Я весь трепетал среди сих размышлений, кровь моя с удивительною быстротою во мне обращалась, лицо горело…
Так — человек должен исполнять житейские обязанности, радеть о своем теле, но вместе и помнить свою отчизну, небо и радеть о своей душе. Он должен нести терпеливо египетскую работу[12] и стремиться в землю обетованную!..
Когда же ты даруешь ее узреть нам, господи, вопросил я в умилении, когда свернем мы с себя сип тяжелые оковы нужды, и, целые, насладимся употреблением всех великих способностей, нам тобою дарованных, когда вкусим полное счастие и внидем в твое царствие? Чего ты от нас для этого требуешь?
«Будите убо вы совершении, якоже отец ваш небесный совершен есть»[13], — послышался мне внутренний голос — и я и восторге упал на колени пред благодатным внушением. Так, так, человек должен усовершенствоваться, повторял я себе почти без памяти. Это было в лавке. Сидельцы захохотали и, увидев меня в таком положении, называли сумасшедшим, но я не внимал их диким воплям. Я был вне себя, в каком-то высоком самозабвении. Я не слыхал на себе этих вериг, этой тяжелой плоти. Душа моя парила в горних пространствах. Нет, батюшко, не могу, не могу вам выразить, что со мною творилося. Сколько я чувствовал! Как будто бы от моего сердца протянулись жилы по всей природе, как будто кровь моя разлилася повсюду, и я все услышал, все увидел, осязал, узнал, слился с общею жизнию… я ничего не имел, но все содержал. — О, зачем я не умер тогда!
Не помню, как я воротился домой. Вскоре занемог я сильною горячкою, которая в шесть недель в самом деле привела было меня к гробу.
Начав оправляться, пришедши в себя, я тотчас обратился к благодатной мысли об усовершенствовании, озарившей мою душу в ту незабвенную, вечную минуту, в субботу 19 января 18…-го года.
Тогда-то с ужасом увидел я ясно, в каком несчастном положении нахожуся, сколько имею особенных неудобств. Отец мой, выросший в нужде, навсегда остался с нею, при миллионах был нищим и беспрестанно боялся, что умрет с голоду. Выше денег нет для него ничего. Меня любит он наиболее потому, может быть, что, по его мнению, я могу сохранить и увеличить его капитал. Как осмелюсь я заикнуться пред ним, что хочу учиться, — как стану просить его, чтоб он отдал меня в училище, когда при мне часто он называл все училища распутными домами, которые непременно навлекут на землю содомское наказание[14], когда настрого запрещал мне читать даже Евангелие. Притом с самого младенчества я его боюся как огня. Один взгляд его часто каменит меня. Мать любит меня от всего сердца, но, покорная во всем мужу, — не имея на него никакого влияния, не может подать мне помощи. Посоветоваться, поговорить мне было не с кем, да и, не уверенный ни в себе, ни в людях, я боялся, чтоб не стали насмехаться над моими странными мыслями. — Что мне делать?
Я решился обратиться к книгам. В них, думал я, должна заключаться вся премудрость, в них разумные люди предали своим собратиям благие истины, ими обретенные, о всех предметах, достойных человеческого внимания. Там найду я средства к моему усовершенствованию.
На все деньги, сколько их у меня случилось, купил я себе потихоньку книг, попросив купца отобрать самые лучшие. В глухую полночь, когда все вокруг меня засыпало, я высекал огонь, вынимал из-под полу мое сокровище и принимался читать вплоть до утра. Ах, батюшко, как обманулся я в своем ожидании! Как много мелкого, обыкновенного, пустого нашел я в одних книгах, как много непонятного, бесполезного в других! Стоило ли труда писать их, думал я часто и сожалел, что некому было указать мне на достойные и любопытные: батюшка не спускал с меня глаз и, заметив прежде, что я любил говорить о Библии с одним старым нашим приказчиком, всячески старался держать меня в удалении от всякого сообщения. Редко попадались даже и такие книги, которые хоть бы скуки не наводили на меня, очень немногие вознаграждали за потерю времени. Между прочими случилось мне прочесть стихотворения какого-то господина Жуковского. В них нашел я все знакомое, но так сладко, так приятно было мне читать их, что неприметно выучил их наизусть, — и часто, когда грусть стесняет мое сердце, когда моя будущность закрывается темными тучами, я нашептываю себе в утешение его складную речь:
Здесь радости — не наше обладанье!
Пролетные пленители земли
Лишь по пути заносят к нам преданье
О благах, нам обещанных вдали!
Земли жилец безвыходный — страданье,
Ему на часть судьбы нас обрекли!
Блаженство нам по слуху лишь знакомец!
Земная жизнь — страдания питомец.
И сколь душа велика сим страданьем!
Сколь радости при нем помрачены!
Когда, простясь свободно с упованьем,
В величии покорной тишины,
Она молчит пред грозным испытаньем,
Тогда… тогда с сей светлой вышины
Вся Промысла ей видима дорога!
Она полна понятного ей бога![15]
Между тем мысли мои следовали по полученному на правлению. Я не переставал думать, смотрел в бездну, — и голова моя наконец закружилась. Все прежние вопросы, казалось, решенные, возобновились опять с новою силою. К ним беспрерывно присоединялись другие, или лучше: все Сделалось для меня вопросом безответным. Я недоумевал, сомневался. Часто смотря на небесные миры, я спрашивал себя: есть ли им пределы? Я не мог представить себе сих пределов, — ибо, если есть они, то какая же непонятная пустота за ними находится? — и вместе не постигал беспредельности. — Усовершенствование! — К чему оно? Что такое это ничто, из которого бог сотворил мир? Где превитает душа человеческая по смерти? Падение! искупление! Верую, господи, восклицал я, обливаясь горькими слезами, помози моему неверию[16]. Я чувствовал, что диавол искушал меня, — мысль моя мешалася, в душе открылася какая-то пропасть, которая всем своим вместилищем алкала содержания и осуждена была на пустоту. Жизнь моя преисполнилась муки. Но это не все, — оставалась еще мысль, которая могла произвести на меня ужаснейшее действие, и я зародил ее: что, если я служу мечте — и, грешный, своими рассуждениями собираю казнь на преступную главу свою в день страшного суда божия!