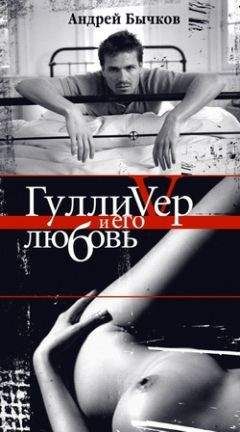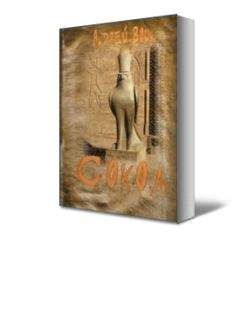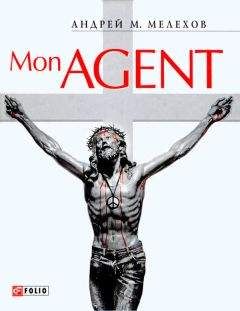Михаил Чернолусский - Под твоим небом
Проехали уже много. Савелий что-то шепнул Федору и затем медленно отодвинулся, повздыхал и лег на лавку, свернувшись калачиком. Густые длинные волосы сползли ему на лицо.
Немного посидев после того, как лег Савелий, громыхнув ботинками, растянулся на лавке и Федор, положив голову на ладонь.
Была та пора, когда солнце, спрятавшись за лес, уже не светило, но небо еще оставалось ярко-голубым и высоким. До вечера - далеко и, значит, ехать еще им было долго.
Андрей посмотрел на водителя, на то, как уверенно держит его рука баранку. Перевел взгляд на плотно закрытую дверь, затем на дорогу, которая вновь была ровной и широкой, и решил в конце концов, что тоже приляжет на полчасика, чтоб в Ясеневку прибыть с силами и относительно хотя бы уравновешенным...
Он не думал, что заснет... Но едва закрыл глаза и вот уже он совсем пацан, школьник, и Петро рядом. Они бегут из школы. У Петра за плечами знаменитый среди пацанов фанерный ранец, его смастерил сам Петр, с открывающейся крышкой и с ремнями. Такого ранца нет больше ни у кого в Ясеневке. Петро хохоча и подпрыгивая, рассказывает что-то Андрею. Андрей между тем слышит слова, но не понимает фраз, смысла. Да и Петр, пожалуй, рассказывая о новостях, все их в кучу собирает и сам не очень-то следит что к чему. Зачем смысл, когда так много фактов и детской радости? Им сейчас не нужен смысл. Важно, что они свободны и бегут... Андрей смотрит на дорогу. Впереди уж нет ничего - ни столбов, ни улицы,- одна гладкая бесконечная дорога. Куда она ведет? Ни Андрей, ни Петр не знают этого, но им весело как раз от того, что дорога впереди такая долгая. Дорога всегда куда-то ведет. И куда-то зовет - смелых и решительных... Да, именно об этом думает Андрей. Четко и ясно: "Дорога зовет... дорога зовет... Все, что впереди - узнаешь, одолев дорогу... Это твоя надежда".
Вдруг свет исчезает в его глазах. И тут же он понимает, что плачет и не спит уже, а проснулся. В автобусе темно. Не поднимаясь, Андрей смахивает слезы со щек и с глаз, но слезы упрямо появляются снова. Сон зовет его обратно. Туда, где Петр жив...
... Девушка в белом останавливается возле зеленой урны. Протягивает ладонь. Из урны летят к ладони, как лепестки белой розы, клочки бумаги. Они прилипают к ее ладони. И вот она держит несколько восстановившихся из лепестков страниц и протягивает их Андрею:
- Это ваша тетрадь. Больше не рвите.
Андрей кивком головы благодарит девушку. Начинает читать и удивляется, - знакомые мысли.
Петр восторженно смотрит на Андрея - "Ну, говори! Говори!"
Андрей с бокалом шампанского в руке - "Если ты просишь, Петр, изволь. - Вы тут ученые, и я о вас... Не казните только за то, что не открываю Америк".
- Дорогие друзья! Как вы знаете, великой эпохе Возрождения предшествовали три великих изобретения - часов, стекла и книгопечатания. Они-то и дали тот мощный импульс творчества, который и привел к возрождению веры в человека. Что неведомо было даже богам, открыл человеческий разум. Мысли и привычки, образ жизни и мировосприятия - все менялось в истории от изобретения к изобретению. Это не преувеличение...
Андрей проснулся и стал вспоминать, что говорил ему Петр о Гутенберге. Как всегда фразочки с усмешкой. "Что ты мне доказываешь - великое изобретение. Но мы и тут преуспели. Тиражируем всякую глупость, разные призывчики, а затиражированный народ в ответ блеет "уря, уря, уря". Ты бы послушал моего старшего брата..."
Автобус неровно урчал и вздрагивал. Значит, кончился асфальт. Андрей приподнялся на локтях, чтобы спросить Федора - приедет ли Макар на похороны или попрощался в Москве, ссылаясь на болезнь и занятость, да и зачем, мол, эта дорога, - в Москве, что ли нет кладбищ...
Ни Федора, ни Савелия в автобусе уже не оказалось.
Зачем сошли? Но вспомнил, когда-то в соседней Лобановке жила невеста Федора - Марьюшка. Скрытые люди - Зацепины. Или Петр приказал? Да, мертвый приказал жить.
5
К Ясеневке подъезжали - уже стемнело. Но была та летняя проницаемая синева, когда чуть ли не до полуночи даже издали различаешь предметы, узнаешь на дороге людей - знакомый ли, сойдя на обочину, пропустил машину, чужой ли путник...
Автобус выехал из лозняка на проселок, ведущий к селу, и Андрей сразу увидел церковь, показавшуюся отсюда скорее стогом сена, чем зданием. Креста все еще нет, хотя стены уже в строительных лесах. "И то слава Богу", вздохнул Андрей. Ведь здесь Петра крестили. У ограды, сколько помнит Андрей, всегда горит фонарь. А чуть пройдешь за ограду, примыкает к церкви - кладбище. Здесь наверняка и покойную мать его крестили, а за отца - не скажет, не помнит, погиб в Гражданскую. Андрей вырос в Москве, у тетки. Ясеневка - это его детство, это мечта, свет души его.
У фонаря Андрей заметил людей.
- Остановись у церкви, - сказал он водителю.
Заголосили старухи, но ни одна из них не подошла к автобусу, когда он остановился. Подошел лишь Антон Миронович. Андрей узнал председателя по развалистой походке и густой шевелюре. Он и летом был в сапогах.
Андрей соскочил на землю.
- Здравствуйте, Антон Миронович.
Пожав руку, председатель заглянул во внутрь автобуса.
- Ты один, выходит?
- Федор в Лобановке сошел, приведет на похороны дружков Петра.
- Это когда же?
- То есть как - когда?.. Завтра похороны?
- Ну, да... - Антон Миронович явно хотел о чем-то сказать и не решался, поэтому казался рассеянным. - А меня помнишь, значит?
- Как не помнить. Редко, но бывал в Ясеневках.
Подошел водитель.
- Куда гроб-то?
Мирон Миронович не успел ответить. По дороге, поднимая невысоким старческим шагом пыль, бежала Павлина Степановна, сопровождаемая ватагой мальчишек, которые, должно быть, и донесли ей, что автобус прибыл.
Старуха без слов, без вскриков бежала, вытянув вперед руки, словно торопилась к живому сыну, чтоб обнять его, утешиться лаской.
А метрах в ста от Павлины, догоняя ее, бежала по обочине, не пыля, Лариса Халимаки. Андрей и ее узнал - легкая, она бежала как заядлый спортсмен. Заела совесть у Макара, прислал жену.
Павлина Степановна, подбежав к Андрею, уткнулась ему в грудь головой и тут же, - Андрей не успел ничего ей сказать, - кинулась к дверцам машины.
Мирон Миронович помог ей влезть в автобус.
Старуха обняла гроб, прижалась щекой к крышке, и все услыхали ее слова:
- Сыночек мой родный... Сыночек... Приехал...
Андрей полез в автобус следом за старухой, боясь, как бы та от слабости не упала. Мирон Миронович задержал Андрея в дверцах.
- Ладно, слышь. Повезем домой. Не даст она в церкви оставить...
И Андрей понял, что - не даст. "Приехал", - сказала Павлина Степановна. По русскому обычаю старики Зацепины поставят гроб на стол в хате, и будет мать до утра с сыном, как с живым, тихо, в слезах разговаривать, а утром придут соседи, попрощаются с покойным, и любой прохожий зайдет, сняв фуражку, постоит в дверях, поклонится сидящему чуть поодаль от гроба Семену Никифоровичу и уйдет, уступая место новому человеку. И в этой тишине, в продуманной до мелочей процедуре прощания, с горящей лампадой в углу, не погаснет родительская скорбь, но приутихнут люди, головой и сердцем поняв меру и срок всему живому на свете. Не уменьшится горе, но согласится сознание с неизбежностью конца. Уж не подумал ли об этом Петро, когда наказывал Люде похоронить его в Ясеневке? Трагическая новость о кончине сына подкосила бы стариков, отняла у них последние силы, а так, похороненный на родине, Петр и безмолвный высказал родным и родине свою любовь и преданность...
Заполночь сосед Соломка увел Андрея к себе, чтоб чаем напоить и на пару часов уложить в постель. Дорогой старик сообщил, что Мирон Миронович снарядил подводу в Ропск за Павлой - телеграмму дала, что приезжает.
Андрей встретил это сообщение как само собой разумеющееся. Еще бы Павла не приехала хоронить дядю Петра, который так любил ее. Соломка восхищался Павлой - и умна, мол, она, и сердечна, и красива. Потом, пока они шли Вавила Тимофеевич и про Петра много говорил. Хотя у Андрея разболелась голова, чему, конечно, нельзя было удивляться - столько событий пережито, - но он следил за мыслью старика. Получалось, что тот вроде бы оправдывался. "Крут был парень, - вспоминал Вавила Тимофеевич,- я ему слово, он мне три. Как же, говорю, это получается? Не лучше ли тебе, Петро, чем пушки новые придумывать, землицу-матушку на родине обрабатывать? Все, мол, говорю я ему, переменится, а крестьянский труд извечен: быть хлебу, быть мужику русскому. Он тут оборвал меня и в крик: глуп, мол, ты, старик, из ума выжил. Во как..."
Не в тот час, когда можно слушать, заговорил Соломка, а унять его было невозможно. Старик не замолк даже, когда к дому своему подошел.
До крайней степени уставший, разморенный теплым чаем Андрей, едва он забрался после разговоров на полати, куда были брошены старая шуба и подушка, тут же не подвластный себе заснул. Только в последний миг перед сном успел подумать: а не Соломка ли все же пробудил в нас нашу совесть и подсказал Петру его последнее решение быть похороненным в родной Ясеневке?