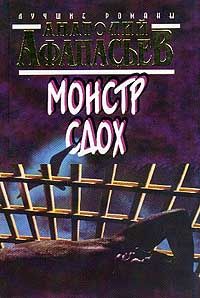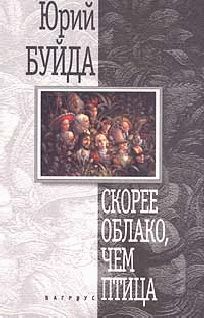Владимир Кораблинов - Прозрение Аполлона
– Кто? – спросила Агния Константиновна, замирая от страха в полутемной передней.
Из-за двери сказали басом:
– Откройте! Квартирьер восьмой армии…
– Но никого… – Голос Агнии оборвался, она сглотнула слюну, – …никого нет дома…
– Ну, вы, послушайте, гражданка, эти шутки бросьте! – строго сказал бас. – Нам тут с вами переговариваться некогда…
– Да вы, Агния Константиновна, не бойтесь, это действительно военные…
Последние слова были произнесены голосом товарища Полуехтова, институтского коменданта, и Агния оглянувшись на Саровского чудотворца, дважды повернула в замке ключ и откинула цепочку.
Вошел назвавшийся квартирьером. Он был высок, грузен, усат; на нее, довольно рослую, вальяжную, смотрел сверху, как бы с потолка. Сказал: «Разрешите?» И пошел (Агнии Константиновне показалось, что он просто перешагнул через нее) глядеть комнаты. Оглядев, написал на входной двери, на черной клеенке, мелом «20 ч.» и велел освободить две кровати. Затем крикнул куда-то наружу. Вошли трое солдат, сложили и унесли кровати.
– Жить будете вот тут, – сказал квартирьер, указывая на спальню. – Койки берем временно, в лазарет…
Через полчаса пришли назначенные на постой солдаты, затопали, загремели котелками, винтовками, и квартира сразу наполнилась табачным дымом и ужасным запахом давно не мытых ног.
Профессорша забилась в спальню и, нюхая из одеколонной склянки нашатырь, сидела одинокая, покинутая, как ей казалось, всеми: прислуга еще в прошлом году, как только начались житейские трудности, разбежалась: кухарка Палагеюшка уехала в деревню, горничной Ксюше приспичило, видите ли, замуж. У всех нашлись свои какие-то глупейшие дела, свои ничтожные интересы, всем было не до нее. Поль веселился у своего Дениса. Рита пропадала бог знает где. Последнее время это с ней случалось часто: то занятия в какой-то студии, то какие-то вечера, рефераты, лекции… Кожаная куртка, юбка чуть не на четверть выше щиколотки, ужас! Замызганная холщовая папка с рисунками… Словечки, дикий жаргон – «пока», «а раньше-то», «шамать»… Ох, дочка!
– Боже мой! – прижимая тонкие, слабенькие пальчики к вискам, шептала профессорша. – Одна… одна… Беспомощна, как дитя… И вокруг эти ужасные… отвратительно пахнущие люди! Хоть бы поскорее возвратился Поль…
И вот Поль пришел, представьте себе, как ни в чем не бывало.
Он, представьте себе, вошел в спальню, бодро насвистывая марш тореадора. Рушилось все: житейский комфорт, семейные устои, неприкосновенность жилища… даже сама Россия, может быть, рушилась… а он насвистывал: «Тореадор, смелее в бой!»
Этот нелепый человек, монстр, чудовище, озадачивал ее всю жизнь. Двадцать лет она не переставала удивляться его выходкам. Все видели в нем знаменитого ученого, автора многих значительных трудов, но никто не знал, не догадывался, что он просто притворялся, валял дурака, мистифицировал, играл в ученого. Она одна знала, кем был на самом деле профессор Коринский. Несмотря на свой богатырский рост, на грузность, на бороду веником и сорок пятый размер обуви, он был обыкновенный шалун. Мальчишка. Анфан террибль.
Все рушится, она полфлакона нашатыря вынюхала, в квартире ужасные постояльцы… а он насвистывает!
И ничего не замечает.
Скидывает мокрую шубу на хрупкую старинную козетку, топает в тесноте, среди нагромождения вещей к ангельски-белой кроватке, плюхается на кружевца покрывала, кряхтя, сопя, стягивает глубокие калоши… и тотчас – лужи, грязь на паркетном глянце, пятна грязи на кружевах…
Но бог с ним, бог с ним. Теперь не до того.
– Подумай, Поль… какой ужас!
– Да? – рассеянно. – Действительно. До ниточки. Насквозь. («Помни, что в час борьбы кровавой…») Дай-ка, Агнешка, сухие носки… Аховая дорога, сволочь! А тут еще дождь, снег, бр-р! Спасибо. («Черный глазок следит с тревогой…») Денис Денисыч тебе кланяется, велел ручки расцеловать. Вот сейчас, переобуюсь только… («Там ждет тебя любовь!»)
Ни-че-го не заметил!
Почему теснота, почему козетка из гостиной перекочевала сюда, почему в спальне – вешалка из передней, оленьи рога… Почему кровать только одна. И как теперь устраиваться спать, если Поль даже смолоду терпеть не мог спанья вместе, на одной кровати, а уж теперь-то…
Переобулся. Надел сухие носки, теплые меховые шлепанцы. Церемонно приложился к хрупкой, атласной профессоршиной ручке и сел, явно благодушествуя, в сухости, в тепле. Отдыхал после дороги, после брани с хлыщеватым дежурным офицериком. Радовался, что потухла изжога. Прощал Денису Денисычу немыслимую икру и «Цинандали», чтение… Впрочем, рукопись была довольно интересна, ничего себе. Во внутреннем кармане пиджака Аполлон Алексеич нащупал толстую тетрадь и решил, что вот как уляжется, почитает немножко на сон грядущий, как говорится… Любопытный, любопытный человечище Денис Денисыч Легеня! Нет бы тихонько возиться в своем музее с разными там камушками да черепками, развешивать по холодным залам бесчисленные экспонаты (подлинные Рубенсы, Дюреры, Гальсы, Пуссены), реквизированные в помещичьих усадьбах, в городских особняках, картины невероятной ценности, пока уныло приткнувшиеся к стенам кладовки, пока показывающие миру лишь свои скучные серые зады, тыльную сторону холстов и досок. Нет бы заняться в клубе Рабпрос чтением лекций по истории культуры, как настоятельно предлагает ему Наробраз, – нет, он, извольте видеть, еще взялся сочинять книгу… Роман!
Свихнулся Денис Денисыч.
Как, впрочем, и многие, многие свихнулись в ревущем вихре Революции.
Какая-то сумасшедшинка вибрионной запятой проникла в воспаленное сознание русской интеллигенции. Заставила одних исступленно воздевать горе́ Аввакумово двоеперстие, кляня все советское – «сгинь, сгинь, рассыпься!», – и саботировать, и шептаться на тайных сборищах, и ждать падения антихристова (то есть большевиков), реченного по писанию… Других, образованных, привыкших к комфорту, к благорастворению воздухов, эта же сумасшедшая запятая властно подвигла на такие деяния во славу и на пользу новой России, рэсэфэсэрэ, что уму становилось непостижимо: почтенный доктор наук, покинув уютный кабинет, шел в вонючую казарму втолковывать неграмотным бородачам азы египтологии, значение Розеттского камня и бессмертных трудов Жана Франсуа Шампольона, первым в мире сумевшего прочесть строчку египетских иероглифов… Некий господин Бернгардт, дворянин, помещик, ухитрившийся к октябрю семнадцатого года профинтить всю свою наследственную недвижимость, читал цикл лекций на тему «Христос и Антихрист», разоблачая глубоко враждебную Революции реакционную сущность трилогии писателя Мережковского… Швейцарская подданная мадемуазель Матильда Мишель объявляла выставку своих картин – и голодные, окоченевшие посетители обалдело таращили глаза на алых толстомордых рыбин и зеленолицых арлекинов, уныло глядящих с полотен мадемуазель Матильды… Не первой молодости присяжный поверенный оказывался вдруг режиссером-новатором; учитель математики казенной гимназии ошарашивал горсовет предложением разрушить губернаторский дворец и на его месте воздвигнуть Башню Революции, по принципу знаменитого Эйфеля – из железных ферм, но высотой превосходящую парижскую…
И вот – пожалуйте! – Денис Денисыч.
Роман.
Цикл романов! Двадцать томов! Этакие российские Ругон-Маккары, прослеженные на тысячелетней глыбе времени…
В тетради, которая вручена профессору, еще только начальные главы первой книги, еще впереди – девятнадцать, а автору шестой десяток идет.
Не сумасшествие ль?
Но любопытно, черт возьми! Почитаем, почитаем…
«Тореадор… сме-е-ле-е…» (Вот так привяжется мотивчик, ходи с ним целый день!) Напевает, гудя, сопя, прищелкивая пальцами. Ищет страницу, на которой оборвано чтение. Ага! Вот… «И понял старый Телига, что одинок, что покинут вчерашними единомысленниками. Дотлевали нежаркие уголья огнища, белые рубахи старцев удалялись, как бы пожираемые черной пастью ночи»…
– Поль, – сказала Агния Константиновна. – Господи, неужели ты так-таки ничего не замечаешь?
– А? Что? – рассеянно отозвался профессор. – Чего не замечаю? Ну, конечно, конечно… солдаты, аромат этакой. Один там, знаешь, на рояле пристроился, вшей ищет… Но это, Агнешка, временно, что ж сделаешь, вся Россия сейчас – сплошной фронт.
– Так ведь кровать-то вот эта, моя, у нас одна на всех осталась. – Агния всхлипнула. – И твою, и Риточкину взяли…
– Ка-ак?! – взревел Аполлон Алексеич. – Как, то есть, взяли? Что это значит – взяли?
– Да вот… для лазарета будто бы.
– Ну, уж это нет! – Профессор не вскочил – прянул, забегал по тесной спальне, в нагромождении вещей и вещичек, натыкаясь на какие-то нелепые, сроду никому не нужные предметы, все эти тумбочки, этажерочки, креслица… «Как же это, позвольте-с! – прыгали, метались бессвязные мысли. – Одна кровать? Что значит – одна кровать? На троих?! Ну, допустим, не на троих – на двоих, Ритка может пристроиться на козетке, но все равно: тебе будут дышать в затылок, голой пяткой касаться твоей ноги… притискивать тебя задом к холодной стене… Ну, нет! «Пардон, пардон, тысячу раз пардон!» Ах, разбойники! Еще и ножкой шаркает, сволочь! Жоржик!.. Вот тебе и почитал на сон грядущий!»