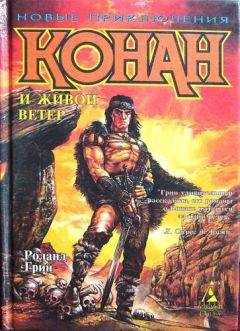Иван Леонтьев-Щеглов - Корделия
— Послушайте, Корделия, — начал я и остановился. — Вы меня извините… вы не сердитесь… Ведь можно вас называть Корделией?.. Мне так гораздо поваднее, чем называть вас Мартой Васильевной!
— Разумеется можно, раз я вас называю Сакердоном… и если это «поваднее»!
Она засмеялась и обернулась в мою сторону.
— Послушайте, Корделия, вы такая добрая, вы такая хорошая… и неужели вы до сих пор ничего не замечаете, что со мной происходит?
Она опять засмеялась, но уже не обернулась.
— Представьте, я такая добрая, я такая хорошая… и ничего не замечаю!
— Да поймите же, я ведь страдаю… я мучусь как никто… вот так, кажется, сейчас бы вылез из саней и бросился в прорубь… До того мне тяжело!
— Полноте, Сакердончик, что вы такое говорите?.. Кто же кидается в прорубь после успеха на сцене!
— Не упоминайте мне об этом успехе, ради бога, ни слова… Я стыжусь его!..
— Ну, теперь я вас совсем не понимаю. Разве не вы сами говорили, что сцена — единственная цель вашей жизни?
Вся кровь бросилась мне в голову.
— Вовсе не единственная, — глухо проговорил я. — И потом, если я могу быть актером, то из этого еще не следует, чтобы я стал ломаться на потеху толпы… Я искусство понимаю совсем иначе… Да впрочем, теперь для меня важно и не искусство, и не мой ненужный успех… а совсем другое… без чего моя жизнь все равно омертвеет и станет бесцельной…
— Что же это такое? — спросила Нейгоф недоумевающим голосом и зябко окунулась в свою лисью ротонду.
— То, чего я пока не могу вам сказать… то есть не имею права… не смею…
— Говорите… я вам позволяю, — послышался голос из ротонды.
я не решался и поджидал, пока сани доехали до часовни Николая Чудотворца; тогда я поднял воротник теплой шинели, незаметно под ним перекрестился и тихо прошептал:
— Я вас люблю, Корделия!
Я не знаю, открещивалась ли Корделия под своей лисицей от моего непрошенного признанья, но несколько минут она хранила упорное молчание. Когда сани приблизились к Среднему проспекту, она вдруг вынырнула из ротонды, весело меня оглянула и прощебетала с тем добродушным юмором, которым она умела смягчать самые жестокие приговоры:
— Ах, Сакердончик, какой вы глупыш… Что вы говорите… Разве вы не знаете, сколько мне лет?
— Я не знаю… я думаю — девятнадцать…
— Еще не вступно, — ответила она томно, имитируя мою сегодняшнюю любовную игру.
— Что же из этого следует?
— А следует то, милый Сакердончик, что мне еще слишком рано знать такие страшные слова, как «я вас люблю, я вас обожаю, я кинусь из-за вас в прорубь» и т. п. Так думает maman по крайней мере, а вы знаете, как я ее во всем слушаюсь!
Зная отлично, что Марта свою maman ни в чем не слушала и поступала во всем по своей прихоти, я, конечно, не мог не видеть, что все это были одни милые отговорки от прямого ответа. Как раз сани остановились на углу девятой линии, у ворот знакомого пятиэтажного дома. Я помог ей выйти из саней и взволнованно пробормотал:
— Мне нет дела до вашей maman… Главное — что вы думаете?
— Вообще о любви?
Сердце у меня сжалось.
— Пожалуй… вообще.
— Сказать откровенно?
— Скажите откровенно…
— Я думаю, что эта история совсем лишняя для артистки… «Искусство прежде всего!» — продекламировала она с шутливой важностью и, протянув мне руку, торопливо проговорила: — Ну, до свидания, Сакердончик! Смотрите же, не дуться и в это воскресенье быть, как всегда, ровно в 7 часов… Слышите, ровно в семь! — крикнула Марта уже в воротах.
Я не промолвил слова и бессмысленно уперся глазами в ворота, над которыми, мне казалось, светился не нумер дома, а зловещая надпись из Дантова ада: «Оставь надежду навсегда»… Некоторое время я стоял, не двигаясь, все на том же месте, уничтоженный, пристыженный, лишенный всякой опоры… В моей жизни произошли два роковых открытия, которые наполнили мою душу безысходным отчаянием: она меня не любит… и я — комик!…
IV
Молодость быстро залечивает самые тяжелые огорчения и самые жестокие обиды. То же самое было и с моим васильеостровским романом. Это не значило, однако, чтобы я окончательно излечился от моей страсти; напротив того, страсть пустила еще более глубокие корни, но получила теперь совершенно иное направление, направление более платоническое, почти молитвенное, обратив мою реальную Корделию в подобие античной богини, в живое воплощение той высшей красоты, которую я смутно улавливал в созданиях искусства.
Впрочем, я примирился с моим любовным провалом не сразу и воскресенье, последовавшее за роковым спектаклем, пропустил. Но только одно. На второе воскресенье я опять явился и, как было наказано, ровно в 7 часов… и незаметным образом все опять вошло в свою колею.
Не так было с моим драматическим недоразумением. С положением комика я вовсе не желал примириться и после моего нелепого успеха в «Моте» стал еще усерднее налегать на трагедию, питая тайную надежду при первом удобном случае поразить мир. Но такой случай представлялся в очень, отдаленном будущем, а следующий ученический спектакль перед великим постом состоял из пролога «Псковитянки» Мея и «Каменного гостя» Пушкина — двух литературных перлов, в которых вашему покорному слуге, однако, не нашлось места. Я, разумеется, метил на Дон-Жуана, изучил эту роль перед зеркалом, бегал специально на нее смотреть на гостившего в то время в Петербурге знаменитого Эрнеста Росси, и вдруг (можете себе представить мое негодование!) — мне поручили роль Лепорелло, а Дон-Жуана предоставили изобразить «окающему» Кузьме Блошенко. Но я решил на этот раз выдержать характер и от комической роли отказался наотрез.
Нейгоф тоже показал характер, как и я, решительно отклонив предложенную ей роль доны Анны и выразив настойчивое желание сыграть Лауру, за которую, в свою очередь, уцепилась обеими руками панна Вильчинская.
Таким образом, спектакль прошел без нашего участия и, к полному нашему удовольствию, невыразимо скверно. Лаура-Вильчинская во время пения два раза сорвалась с голоса, а Жуан-Блошенко орал без толку к без совести и гремел своими огромными подвязными шпорами, как взвод жандармов.
Тем не менее Марте все-таки хотелось выступить в чем-нибудь перед публикой до закрытия школьных занятий. За отказом от доны Анны оставалось выступить в качестве чтицы в предполагаемом в конце поста литературном вечере. Весь вопрос сводился теперь к тому, что читать. По поручению Марты я перебрал всевозможные «Живые струны», всякие школьные хрестоматии и сборники новейших поэтов, даже рылся одно время в Публичной библиотеке в старых журналах, надеясь там найти что-либо по вкусу моего идеала, и все-таки никак не мог угодить. Или стихотворение было слишком длинно, или очень коротко, или слишком сентиментально, или опять слишком вульгарно.
Наконец, она нашла сама без всяких посторонних влияний, что читать, перелистывая как-то разрозненный том стихотворений Майкова. Как-то раз я зашел к Нейгоф не в обычное время, утром, всего на минутку, с новым поэтом под мышкой. Я застал Марту посреди залы с раскрытой книгой в руках, взволнованную, порозовевшую, похорошевшую…
— Сакердончик, милый… я нашла то, что мне нужно! — встретила она меня ликующим возгласом.
Это было стихотворение Майкова «Невольник», художественный перл, как-то странно мной пропущенный среди огромного стихотворного вороха, мной пересмотренного. Марта вся была под впечатлением своей поэтической находки.
— Стойте, я вам сейчас прочту… идите сюда…
— Но позвольте, надо же раздеться…
— Совсем не надо, идите так, как есть… Maman нет дома… Идите же, а то у меня пройдет настроение! — крикнула она повелительно.
Я повиновался и так, как был, в теплой шинели, в высоких мокроступах, запорошенный снегом, ввалился в залу. Марта откашлялась, выступила на середину залы, выпрямилась и медлительно-плавно, с каким-то красивым помахиванием руки, произнесла:
Каждый день в саду гарема,
У шумящего фонтана,
Гордым лебедем проходит
Дочь великого султана.
Затем она незаметно ступила шаг назад, наклонила голову и, ревниво мерцая из-под опущенных ресниц своими чудесными глазами, продекламировала далее:
У шумящего фонтана,
Бледный с впалыми щеками,
Каждый раз стоит невольник
И следит за ней очами.
Раз она остановилась,
Подняла глаза большие…
(И она устремила на меня свои большие, пристальные глаза)
И отрывисто спросила:
«Имя? Родина? Родные?»
И как спросила! В ее голосе чувствовалось одновременно — и оскорбленная гордость повелительницы, смущенной упорным взглядом красивого раба, и невольное участие, и робко проступавшая нежность. Потом взгляд ее вдруг загорелся, грудь взволновалась, лицо, казалось, потемнело, и глухо, но отчетливо, как биение сердца, голосом человека, сдавливающего в себе прорывающуюся наружу кипучую страсть, она прошептала: