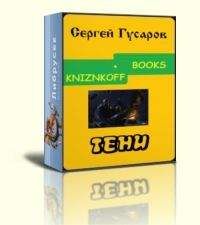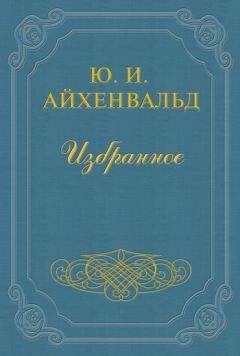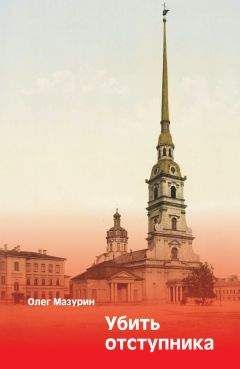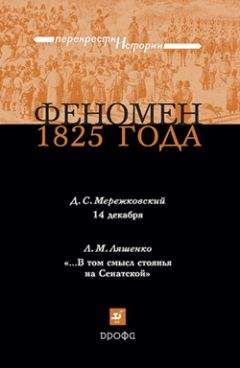Сергей Терпигорев - Потревоженные тени
Крестьянская реформа 1861 года спасла русское дворянство от закипавшего народного гнева. Свобода, пусть куцая, и земля, пусть урезанная, дали иные возможности для выхода крестьянской силы и энергии. «Теперь на своих ногах — от самого зависит человеком стать...» — говорит крепостной терпигоревского отца Филипп.
Однако память о крепостном право, о его тяготах и ужасах, подхлестываемая к тому же неоднократными и небезуспешными попытками дворянского класса сохранить власть над крестьянином, память гневная и взрывоопасная, жила долго. В 10-х годах XX века поэт-крестьянин Пимен Карпов писал консервативному писателю и публицисту В. В. Розанову: «Вы... сознательно замалчиваете великую трагедию русского землероба — его зауниженность... его беспомощность, и сознательно зло клевещете на русский народ... Припомните крепостное право: кого засекали розгами до смерти, кого травили насмерть собаками, кого сжигали на горячих плитах (я знаю такой случай: мой прадед крепостной был сожжен помещиком на раскаленной плите)...»
Эту силу непрошедшего народного гнева всегда чувствовали Некрасов, Салтыков, Глеб Успенский. В такой степени Терпигорев ее не ощущал. Тут и была причина того охлаждения и расхождения между ним и кругом «Отечественных записок», которые наступили после цареубийства 1881 года.
* * *
Не соглашаясь с революционными демократами в конечных выводах, Терпигорев тем не менее видел действительность и дореформенную и послереформенную — трезво и писал ее правдиво. Вот почему ценность его литературного наследия непреходяща и по сей день. Вот почему его интересно читать и перечитывать. К тому знанию о российской жизни прошлого века, которое дают нам книги великих писателей — Гоголя, Тургенева, Гончарова, Толстого, Лескова, Писемского, — произведения Терпигорева добавляют весомую часть.
Они были очень нужны, когда писались и печатались. Об этом хорошо в свое время сказал Н. С. Лесков: «Весь этот мир отошедших ныне дворян и «хор подавленных и трепетных людей» как бы встает и воздымает руки, чтобы, увидя их, люди встрепенулись и вспомнили, что такое было в том ужасном прошлом, в котором иные научают нас теперь искать идеалов для будущего».
Они нужны и сейчас. Любая попытка понять ход русской жизни, душу русского человека и мир русского народа невозможна без русской литературы, в том числе и без книг Сергея Николаевича Терпигорева.
«Потревоженные тени» — лишь часть его творческого наследия. В шеститомное собрание его сочинений, подготовленное им перед смертью (он скончался в 1895 г.), кроме этого цикла и уже упоминавшегося «Оскудения» (то и другое заняло три тома), вошли рассказы, очерки, пьесы и воспоминания, житейские и литературные. Лучшее из этих шести томов еще послужит и новому времени, и новому читателю.
Юрий Болдырев
ПОТРЕВОЖЕННЫЕ ТЕНИ
В РАЮ
I
Как стал я себя помнить, каждый год мы ездили в Знаменское, к «тетеньке» Варваре Николаевне Дукмасовой. То есть нам-то она приходилась бабушкой, а отцу с матушкой — тетенькой, и потому все звали ее «тетенькой», и даже сама она не любила, чтобы ее называли иначе.
— Уж ты, мать моя, заспешила, нарожала детей, и пожить-то как следует не успела, — говорила она матушке, как-то уныло поглядывая на нас, — первая меня в бабки произвела: отличилась...
Но тем не менее, однако, она нас любила, особенно меня — потому, может быть, что я был ее крестник. Или еще, может быть, потому, что я представлялся ей вышедшим в дукмасовскую родню.
— Этот будет совсем Миша-брат: и глаза его, и лоб, и потом вот этот вихор... — говорила она, рассматривая меня.
Она почему-то была необыкновенно высокого мнения о дукмасовском роде — роде своего мужа — и потому благоволила и ко мне.
Но я уж привык выслушивать такие рассуждения: дядя Петр Васильевич Скурлятов находил, что я весь в скурлятовскую родню; тетушка Марья Дмитриевна Чемезова — что я весь в Чемезовых вышел... и потому я только поглядывал на них и никак не мог понять, что это за достоинства такие они во мне всё открывают?.. И почему это хорошо быть похожим на Дукмасовых, Скурлятовых или Чемезовых, а не на свой род, фамилию которого я носил? Чем он хуже их? Чем они лучше? Но это меня не особенно занимало.
Эти поездки в Знаменское и к другим дальним, то есть на далеком от нас расстоянии жившим, родственникам составляли в своем роде целые события, о которых начинали говорить еще с весны и готовились долго, всё обдумывали, соображали, взвешивали — к кому первому ехать, к кому по дороге «туда» заезжать и к кому «оттуда», когда поедем назад, у кого сколько пробыть, кому что сказать и как у кого себя вести? Вспоминая теперь эти поездки, я не знаю, что такое, собственно, они представляли — акт дипломатической вежливости, посольство чрезвычайное или навещание дорогих родственников, нежно любимых. Я скорее думаю — первое, потому что чувств этих нежных и родственных, вообще говоря, было мало...
Предпринимались эти поездки обыкновенно летом, в начале лета, когда еще ни уборки, ни фруктовых и плодовых заготовок нет, так в последних числах мая, самое позднее — в первых числах июня.
К этому времени дипломатическая сторона поездки бывала уж совершенно выяснена, — соображались и разбирались вопросы второстепенные: об удобствах поездки, как и когда, в какой день выехать, какие вещи с собой брать, и проч., и проч. Эти второстепенные вопросы, представляющиеся теперь пустяками, не были, во-первых, в то время такими, и потому к ним относились иначе: совсем другие были понятия, другой строй жизни, потому что другой совсем был быт.
Дня за три до того, как трогаться в путь, карету, давным-давно уж осмотренную своими домашними слесарями и каретниками, выдвигали из каретного сарая, и она, в чехле, стояла на конюшенном дворе для чего-то снаружи до того самого дня, когда ее будут нагружать и запрягать. Сундуки и важа[1] из нее и с нее давно уже принесены в дом, и стоят они в девичьей, в детских, и в них постепенно, мало-помалу, не спеша, всё укладывают.
— Ну, детское, сударыня, все уложено, — говорит, приходя к матушке, нянька наша Устинья Ивановна.
— Все?
— Все, сударыня.
И они, проверяя, не забыли ли что, обе начинают перечислять наименования предметов, сколько чего взято с собою, уложено, сколько рубашечек, кальсончиков, платочков, и проч., и проч. Выходят недоразумения при этом.
— Ах, Устиньюшка, я тебя не понимаю совсем, — с непритворным, искренним удивлением говорит матушка, — кальсончиков ты берешь шесть! Мальчик — ну, разве может ему этого хватить? Ведь это девочке — можно, довольно...
— Сударыня, да ведь и прошлый раз шесть же пар брали, — обиженным тоном говорит нянька.
— Да ведь, я думаю, он растет!.. Он всюду уже теперь ходит, разве удержишь его: он и рыбу удить пойдет, и верхом ездить будет, и так, в лесу, в саду бегать будет, пачкаться. Не понимаю, как это ты только не понимаешь этого, — резонно и глубокообдуманно возражает ей матушка и приказывает взять еще кальсончиков.
В особом сундуке и в двух баульчиках с вышитыми бисером крышками уложены вещи гувернантки нашей, Анны Карловны. Она тоже всего набрала с собой: и белья, и всяких вещиц для рукоделья, до наших книжек и тетрадок включительно. Мы не будем, конечно, ни дорогой, ни в гостях у родственников учиться, но на всякий случай — а может... Мы это знаем всё отлично, даже глубоко убеждены, что этого не случится; но берут это всё и не для этого, а для того, чтобы это все было под рукой и чтобы, в случае чего, можно было сказать: «А вот, если будете шалить, вас посадят заниматься с Анной Карловной», — вот для чего. Но это нас так же мало пугало, как чучело на огороде воробьев.
А потом матушкины вещи, ее сбор... Во время нашего пребывания у родственников — у одних должна быть свадьба, у других именины, там торжественно празднуется рождение. И ко всему этому берутся особые, приличные случаю, платья, все принадлежности... А вещи няньки Устиньи Ивановны, вещи горничной Матреши, которая тоже едет с нами, потому что кто же будет ходить за матушкой, кто же будет в чужом месте следить за всеми ее вещами?
В день отправления, с утра, карета, все еще в чехле, запрягается в одну лошадь и таким образом доставляется к дому, к крыльцу. Тут ей новый осмотр... Осматривает отец, осматривает старик Осип Матвеевич, дворецкий и камердинер еще деда-покойника, осматривает ее даже садовник Михей — он был когда-то форейтором[2] и тоже в этом понимает. Наконец мы, дети, на минутку заглядываем в нее: нам отворяют дверцы, и мы смотрим на знакомую нам ее синюю обивку с бесчисленными басонами[3], висящими в ней, подушками, зеркальцами, нюхаем, как духи какие, юфтевый[4] запах, который присущ ей и которого мы уж давно не слыхали — с самого прошлого года, как ездили в ней в то же самое время.