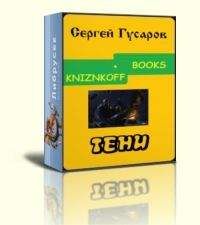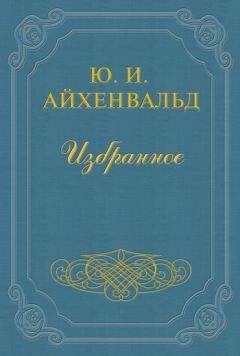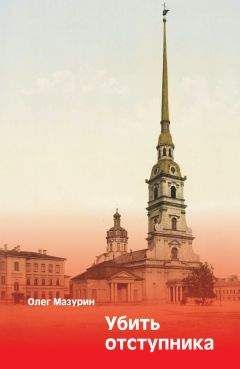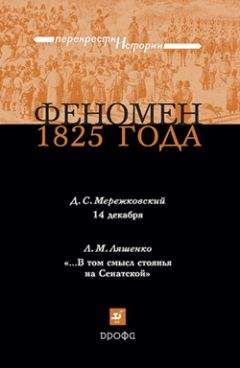Сергей Терпигорев - Потревоженные тени
« — Ну, а сколько же, тетенька, времени вышивали его?
Два года, мой друг... Двенадцать девок два года вышивали его... Три из них ослепли».
Дурной барин отослал бы этих ослепших девок обратно в крестьянскую семью: пусть содержат до смерти, — добрая Знаменская барыня устроила для своих «слепеньких» нечто вроде богадельни. Но молодость отнята, но жизнь выпита ради барской прихоти, не очень-то, как выясняется, и необходимой: «На Поленьку (дочь Дукмасовых. — Ю. Б.) и на ее жениха этот разговор не произвел никакого, казалось, впечатления. Они были счастливы, и счастье их было так полно. Они, может быть, однако, были бы не менее счастливы и без этого пеньюара...»
6
А что же происходило там, где «рая» не было и не предвиделось? Где случались «многие случаи тогдашней жизни, не составлявшие по тому времени ничего особенного, мимо которых проходили все, не задумываясь над ними»? Ведь «рай» был делом редкостным, необычайным — недаром и в уезде, и в губернии все помещики так дивятся порядкам, заведенным в Знаменском. Редкостным он, кстати, бывал не только потому, что среди помещиков нечасто встречались добрые и гуманные люди, но и потому, что даже такие люди сами не вмешивались в свое крепостное хозяйство, а отдавали его под начало управителям, бурмистрам, старостам, которые извлекали из крестьянина не только помещичью, но еще и свою собственную пользу, а о гуманности не помышляли. К тому же «добрые» помещики, воспитанные среди крепостных порядков, не замечали, не понимали своей собственной жестокости: «Тогда, при крепостном порядке, суд был скорый, и этим судом не особенно стеснялись...»
«Я отлично помню, — вспоминал Терпигорев, — эти тенистые сады с липовыми и кленовыми аллеями, террасы, обсаженные сиренью, на которых при свете ламп за самоваром читались «Рыбаки» и «Дворянское гнездо» и т. д. (писатель называет произведения Григоровича и Тургенева, особенно известных в то время книгами о русском крестьянине, о его уме, сметливости, хозяйственности, самостоятельности. — Ю. Б.) и с которых пришедшему за распоряжением на завтрашний день старосте тут же отдавались приказания (что поделаешь с нашим народом!) «взяскать» с Егорки или Марфушки... И я не могу сказать, что это все уживалось в силу двоедушия, лицемерия и тому подобного. Нет, это было все просто продукт сытого желудка и спокойной, уверенной мысли о сытом завтрашнем дне. Люди вырастали при такой обстановке, что с чистой совестью верили в свое призвание управлять этим «нашим народом», точно так же, как и в то, что этот народ без их опеки непременно пропадет».
Большинство рассказов, вошедших в «Потревоженные тени», как раз и повествует о «многих случаях тогдашней жизни», не о тех, что выходили из ряду вон, а о тех, что составляли канву обычной действительности, не казались и не были чем-то особенным и ни в ком, кроме редких людей вроде отца будущего писателя, осуждения не вызывали.
Причем Терпигорев намеренно и принципиально рассказывает только о том, чему свидетель в жизни был, что видел собственными глазами. Больше того, он старательно исключал, избегал нажима, педалирования, ставки на жалостность и сентиментальность. Он писал об этом в воспоминаниях: «...из всех моих написанных рассказов, очерков и повестей нет ни одного, который был бы хотя немного рассчитан на эффектные места в нем, на громкие фразы. Я написал много слабых, растянутых, не отделанных и даже недоделанных вещей, но в них нет ни одной даже попытки на ходульность, на битьё фразами, их треском и блеском. В этом, впрочем, мне не отказывали и, надеюсь, и дальше не будут от называть и мои критики» Стремясь к жизненной правде в ее полноте и объемности, писатель избегал также нарочитых умалчиваний о фактах и деталях, «невыгодных» с первого взгляда для его идей, и подчеркиваний того, что, наоборот, для этих идей было бы выигрышно.
Эта спокойная, неаффектированная честность писателя как-то по особенному окрашивает его рассказы и внушает читателю доверие к его повествованиям даже тогда, когда описанное в них может показаться невозможным, небывалым. А таким невозможным и небывалым теперь, когда мы далеко ушли от той эпохи и ничто в нашей жизни не схоже с ее реалиями, когда та эпоха, как и всякое прошлое, подернулась патиной и как бы очистилась в нашем сознании от многих своих мерзостей, когда можно ничтоже сумняшеся заявить, что «несжатая полоса», о которой писал Некрасов, была едва ли не единственной на всю тогдашнюю Россию, и, оплакав ее, случайно встретившуюся ему, поэт едва ли не оболгал ту Россию, на самом-то деле благоденствовавшую и довольную, — таким может показаться многое, рассказанное Терпигоревым. И история с покупкой крестьянских детей, отрываемых от семьи и отправляемых на пустующие помещичьи земли, где жизнь и детей и взрослых мало чем отличается от каторги, а в чем-то даже и страшнее (на каторге не практикуют насильственные браки и разводы) — рассказ «Проданные дети». И повествование о крепостных девушках, закованных в цепи и колодки за то, что они отказались лечь в постель к барину, старому сладострастнику — рассказ «Емольяновские узницы». И описание псовой охоты на дьякона Ивана (не крепостного, заметим, человека), не угодившего хозяину поместья тем, что «глупости говорил», и сбежавшего от несправедливого наказания — рассказ «Первая охота». И история о том, как из талантливого художника по прихоти барина выбили душу, превратив его в жалкого раба и пропойцу — рассказ «Две жизни поконченная и призванная».
Показывая в другой своей книге — «Оскудение» — грустные картины помещичьего разорения в послореформенное время, рисуя дворянскую неприспособленность к самостоятельному труду, Терпигорев делал вывод: «Всему виной крепостное право...» То же самое он мог бы сказать (да, по сути дела, и сказал) и по поводу тех ужасов, которые выведены на страницах «Потревоженных теней». Ужасы эти порождались самим господствующим строем, порядком — и ничего тут но могли поделать ни книжная гуманистическая пропаганда, ни религиозная проповедь («Возлюби ближнего своего, как самого себя»), ни государственная власть, время от времени наказующая самые страшные злоупотреблении помещиков, опасные для них же самих.
«В сущности, она была просто идиотка — ничего более, или уж по крайней мере, почти идиотка, — пишет Терпигорев в рассказе «Иуда» о некоей Раисе Павловне. Но она была помещица, и у нее была власть. Она была, как я уже сказал, с большими средствами, и если бы она захотела сделать зло, — ну просто почему-нибудь пришло бы ей это в голову, — она могла бы ого сделать, по-тогдашнему, даже и но одним только своим крепостным, но и всякому маленькому человеку...»
В ответ па укоры родственницы в том, что Клавдия Васильевна — персонаж трех рассказов Терпигорева — продает в солдаты отца одной из своих горничных и это жестоко, та отвечает: «Ах, боже мой! Это почему же я не могу? Не госпожа разве я своим людям?.. Я семерых уж продала и сдала уж... Я и еще продам. Нынче такая цена... Когда же это еще такая цена будет?..» (Кстати заметим, что фонвизинский «Недоросль» известен был уже лет семьдесят, но, как видим, знаменитые реплики госпожи Простаковой не устарели: Клавдия Васильевна почти дословно повторяет их — ибо ничего не изменилось в жизненном строе.)
«Что-то ужасное было в ней, — пишет далее рассказчик, — страшно становилось уже не за людей ее, а за самих себя, которые были у нее в гостях...»
7
Добавим к сказанному автором, что при взгляде на Клавдию Васильевну, чей характер, взгляды на жизнь, поступки показаны и исследованы, как уже говорилось, в трех рассказах — «Тетенька Клавдия Васильевна», «Илья Игнатьевич, богатый человек», «Проданные дети», — становится страшно не только за себя, но и за нее. Так последовательно и неудержимо власть над людьми — и над крепостными, и над племянником, которого она вроде бы любит, и над помещиками в округе, которые то и дело оказываются у нее в долгу, — вытравляет из нее все человеческое, доброе, милосердное. Она действительно становится смертельно опасна для всех, кто с ней соприкасается. Да и для самой себя — в жажде власти и сиюминутной наживы она неспособна остановиться перед тем, чтобы срубить сук, на котором сидит: например, извести своего вернейшего помощника в нечистых и кляузных делишках Илью Игнатьевича, довести любимого племянника своими «безобразиями» до тяжелой душевной болезни, превратившей его в «полуидиота».
Терпигорев показывает, что ее «безобразный и исковерканный» характер развился, обезобразился и исковеркался именно на почве крепостного права. И здесь следует сказать еще об одной важной теме «Потревоженных теней»: о том, что страдают от этого порядка не только крепостные крестьяне, не только барщинные, оброчные и дворовые люди, — страдает вся жизнь, построенная на крепостнической основе, на этом порочном фундаменте.