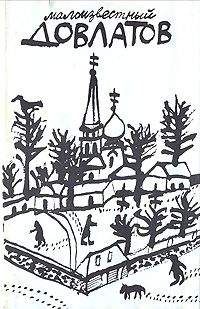Михаил Федотов - Иерусалимские хроники
Я поднялся по крутой наружной лестнице и тихо постучался. Замка на дверях не было, но долго никто не открывал. Я прислушался, потом несколько раз ударил в дверь кулаком. Наконец Аркадий Ионович, близоруко щурясь, открыл мне на цепочку.
"Кто это? -- проворчал он. -- Ночь уже. Я только что заснул".
Я коротко рассказал ему про грузина.
"Почему вы сами не берете? -- спросил он ядовито. -- Знаю, чем вы заняты. Вы совершенно не способны совершать бескорыстные поступки. Какой у него индекс?"
-- Девятнадцать, -- пробормотал я. Он присвистнул: "Как же его фамилия?"
-- Рафаэлов или Габриэлов, -- с трудом я заставил себя вспомнить.
-- Конечно, я его знаю, -- оживился Аркадий Ионович. Он не был пьяным, но от него все-таки сильно несло водкой. - Нищий Габриэлов из Баку! Борин коллега! Где вы его выкопали?
-- Его должны зарезать, -- сказал я нервно, -- я вас в первый и последний раз прошу о таком одолжении. Хотите, я у вас заберу графа? И следующего тоже возьму я. Серьезно. Там такие ручьи на улице -- у меня полное пальто воды. Спрячьте его на неделю! Ну что мне, на колени перед вами вставать?
-- Да кончайте вы свою истерику, -- сказал Аркадий Ионович, -- знаю я, какой он христианин. Он мне тут за неделю все загадит. Он мусульман! На свой куйрам-байран лупит себя по чем свет стоит. Настоящий дикий мусульман. Шляется в мечети просить деньги. Немудрено, что его хотят зарезать. Он целый месяц жил в ешиве у Фишера. Фишер еле от него избавился. Сказал, что он не может держать у себя крещеных мусульман. Но с котами я не возьму. Это я вас предупреждаю. У меня искривлена носовая перегородка. От котов я начинаю задыхаться.
Все-таки мне удалось договориться, что грузин придет к нему утром. Перед сном я выпил рюмку водки, чтобы уснуть. Катастрофически не было денег. Утром попытаюсь продать хозяину стерео. Новое оно стоило четыреста, но я готов был отдать в счет квартирной платы. Все думают, что мой хозяин бухар. Его фамилия Магзумов. Он не бухар. Отец был бухар. И он сильно пьет. Тут все пьют. По утрам он оставляет в лавке старого деда, а сам пьет, шляется по жильцам и собирает с них деньги. Его дед тоже Магзумов. Тоже бухар. Тут все бухары.
Глава четвертая
СНЫ
Жизнь надо поскорее заспать. Проспать ее, закрывшись с головой одеялом, чтобы ничего не слышать. Выползать на свет только по необходимости. Но припрется нищий Габриэлов и будет, сволочь, будить. Пить с ним невозможно. С Аркадием Ионовичем тоже вместе пить нельзя. У нас не совпадают глобальные цели. Мне часто надо выпить только каплю, самую малость. Только чтоб началось. Если есть женщина, то для прозы вообще можно не пить. Трезвым я ничего написать не могу. Даже хроники, а уж ниже рангом прозы не бывает. А что еще сегодня можно писать? От быта всех тошнит. Бабы? Какие, к черту, бабы. Об убийстве пишут романтики. Есть две главные разновидности: убийство из ревности и есть еще убийство из жадности. Так вот -- бульк -- и утопить кого-то, потому что ты хочешь повысить свой жизненный уровень. Но если я попытаюсь описать убийство из ревности, то у меня тоже получается суховато. Потому что мне не мерещатся летучие мыши, и половой аппарат в моей картине мира мало отличается от органов слуха. Про половой аппарат ни для кого уже нет никаких тайн. Ну кого сейчас может заинтересовать факт, что двое взрослых людей ложатся вместе в постель. Об этом хочется знать как можно меньше. Хорошо утром пить анисовую водку с теплой булочкой и потом снова спать. Когда я сплю, меня не преследуют убийства из ревности. Мне снятся русые волосы до попы. Соболиным крылом. Руки в вязаных варежках. Женщина в двадцать лет по имени Катерина. Черт ее знает, как ее теперь зовут. Отличница с химфака. Еврейский индекс -- ноль. Мне снятся удивительно пошлые сны. У меня такой художественный вкус. Мне может присниться Алла Пугачева и еще какая-нибудь чушь, что зимой она ходит без шерстяных рейтуз и от мороза у нее краснеют бедра. Но все-таки чаще всего я понимаю, что это все та же малохольная женщина, которую я любил. И сон всегда не стопроцентный, а с каким-нибудь дефектом. То есть, если в постели, то у нее никогда не туманятся глаза и она раздраженно на меня смотрит. Или снится Алушта. Я приезжал к ней в Алушту. Почему-то за этим все ездят в Алушту. Она была не одна. И с сомнением сказала мне, что, в принципе, не очень увлечена, но ей неловко без видимой причины все бросить. И я в тот же день уехал. Просто повернулся и сел в троллейбус. Пошлялся по Симферополю. Страшная гадость. Посмотрел итальянский фильм "Полицейские и воры", как воруют колбасу. Я тогда очень старался писать, и у меня ничего не выходило. Вроде того, что лежишь в семнадцать лет с кем-нибудь в постели, и то, чего ты ждешь, все равно ничем не ускорить. А если так ждать прозу, то даже из кресла лишний раз подняться страшно. Чтобы ее не спугнуть. Тогда Катерина сказала: "Кажется, ты все-таки пишешь. Но постарайся как можно дольше ничего не писать. Когда-нибудь потом, когда пройдет несколько лет и мы с тобой все начнем сначала". И еще несколько раз мы пытались все начать сначала. Я даже сейчас иногда думаю, что все еще впереди -- хоть она совсем никуда не собирается уезжать из России и завела ребенка от какого-то постороннего человека. Я вообще не понимаю сегодня, есть ли у нее плоть. Помню, как она пахнет. Как пахнут кончики волос. Но она потемнела и стала носить короткую стрижку. И запах мог исчезнуть. Ей уже тридцать пять лет. Это не такой преклонный возраст, но я думаю, что у меня разорвется сердце, если я увижу у нее коронки или седые волосы. В дверь давно стучали.
Черт подери, просыпаешься из такого глубока, и кто-то барабанит по голове.
Я боролся с собой, чтобы не открывать. Надо дисциплинировать себя. Ни с кем не разговаривать и записывать все подряд, как Ксенофонт. Что рано утром встал и купил у Мордехая булку с жесткой корочкой за двадцать пять агурот. В комнате было уже совсем светло. Значит, уже был полдень. Я встал и подмел комнату. Я совсем ничего не могу записать в грязной комнате. В голову лезли сонные мысли, что какая-то девушка сидит печальная на другом конце зала и говорит по телефону. А я вдруг думаю, что это "она", и провожу по плечу ладонью. И она меня узнает по прикосновению кожи. Но я не успел довспоминать, потому что снова пришел хозяин. Я различаю его стук. Но я снова не стал открывать. Посмотрел в окно, как он спускается по лестнице в магазин, взял стерео и пошел за ним следом.
-- Почему на дверь не вывешиваешь свой индекс? -- спросил Магзумов. Я махнул рукой.
-- До конца года должен выехать. Когда собираешься платить?
Я пододвинул к нему стерео.
"Сколько ты за него хочешь?" - спросил он. "Месяц хочу прожить, но чтобы ты меня не трогал. Чтобы я тебя даже не видел. Потом я или заплачу за полгода вперед, или уеду". "А если "не уеду?"" -- спросил Магзумов. "Если не уеду, то снова будем разговаривать". Он недовольно пожал плечами, но приемник все-таки спрятал. Сказал, что подумает и даст мне знать. Лучше, чем хозяину, этот приемник зимой было не продать. Зимой ни у кого нет денег.
День был неплохой. Немного потеплело. Было облачно, но несколько раз солнце показывалось, и снег почти стаял. Все же я его потрогал. Как-то мне психологически важно подержать в руках снег. Дождемся еще, будет много снега, хватит на всех. Я вернулся домой н снова лег. Но скоро пришел этот человек из Баку. Я не сразу ему открыл, но еще с лестницы почувствовал сильный запах лосьона "Афтершейв". Я прошел на кухню и почистил зубы холодной водой. Этот тип стоял на лестнице и невозможно было греть воду. Я надел байковую рубашку и брюки, а пижаму спрятал в шкаф. И после этого спросил: "Кто это?" Он сказал: "Свои", и я открыл дверь. Нищий со вчерашнего дня побрился и выглядел, как хозяйский масляный кот с одним зубом.
"У тебя неплохо, -- сказал он и осмотрелся. -- Не продаешь?" -- спросил он про картину в углу. У меня есть одна хорошая картина, но продавать ее нельзя, и разрешения на вывоз тоже никогда не получить. Перед отъездом придется подарить ее Арьеву.
"Я для вас обо всем договорился, -- произнес я вслух, -- есть комната. Остается только принести туда матрац, и можно будет жить, пока не будет тепло". "А когда будет тепло? -- сказал нищий. -- Это философский вопрос". "Хотите чаю?" "Не откажусь", -- он наклонил голову набок. Я согрел ему чай. "Хороший чай, -- сказал нищий, -- где покупал?" Он начал меня уже очень сильно раздражать. Как раз сейчас, когда стабильная полоса жизни подходила к концу и я обязан был что-нибудь успеть сделать, мне не хотелось больше тратить на людей ни одной секунды. И голодать. То есть -- не есть. То есть есть, только если где-нибудь случайно перепадет. Мне не хотелось этой рабской зависимости от еды. Мимо забегаловок спокойно не пройти. Дома кроме чая было шаром покати. Мыши среди бела дня грызли в шкафу туфли. Оставался батон в целлофане, который не пах, и несколько ложек коричневого сахара. Но мне было совершенно все равно. Я понял универсальную формулу, почему наступает момент, когда писатели перестают писать. Я знаю ее и сейчас.