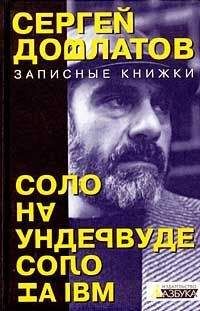Сергей Довлатов - Соло на IBM
– А если все же что-нибудь произойдет? Знаете, во сколько это обойдется?
– Что обойдется?
– Транспортировка.
– Транспортировка чего?
– Вашего трупа…
Дирижер Кондрашин полюбил молодую голландку. Остался на Западе. Пережил как музыкант второе рождение. Пользовался большим успехом. Был по-человечески счастлив. Умер в 1981 году от разрыва сердца. Похоронен недалеко от Амстердама.
Его первая, советская, жена говорила знакомым в Москве:
– Будь он поумнее, все могло бы кончиться иначе. Лежал бы на Новодевичьем. Все бы ему завидовали.
Хачатурян приехал на Кубу. Встретился с Хемингуэем. Надо было как-то объясняться. Хачатурян что-то сказал по-английски. Хемингуэй спросил:
– Вы говорите по-английски?
Хачатурян ответил:
– Немного.
– Как и все мы, – сказал Хемингуэй.
Через некоторое время жена Хемингуэя спросила:
– Как вам далось английское произношение?
Хачатурян ответил:
– У меня приличный слух…
Роман Якобсон был косой. Прикрывая рукой левый глаз, он кричал знакомым:
– В правый смотрите! Про левый забудьте! Правый у меня главный! А левый – это так, дань формализму…
Хорошо валять дурака, основав предварительно целую филологическую школу!..
Якобсон был веселым человеком. Однако не слишком добрым. Об этом говорит история с Набоковым.
Набоков добивался профессорского места в Гарварде. Все члены ученого совета были – за. Один Якобсон был – против. Но он был председателем совета. Его слово было решающим.
Наконец коллеги сказали:
– Мы должны пригласить Набокова. Ведь он большой писатель.
– Ну и что? – удивился Якобсон. – Слон тоже большое животное. Мы же не предлагаем ему возглавить кафедру зоологии!
В Анн-Арборе состоялся форум русской культуры. Организовал его незадолго до смерти издатель Карл Проффер. Ему удалось залучить на этот форум Михаила Барышникова.
Русскую культуру вместе с Барышниковым представляли шесть человек. Бродский – поэзию. Соколов и Алешковский – прозу. Мирецкий – живопись. Я, как это ни обидно, – журналистику.
Зал на две тысячи человек был переполнен. Зрители разглядывали Барышникова. Каждое его слово вызывало гром аплодисментов. Остальные помалкивали. Даже Бродский оказался в тени.
Вдруг я услышал как Алешковский прошептал Соколову:
– Да чего же вырос, старик, интерес к русской прозе на Западе!
Соколов удовлетворенно кивал:
– Действительно, старик. Действительно…
Высоцкий рассказывал:
«Не спалось мне как-то перед запоем. Вышел на улицу. Стою у фонаря. Направляется ко мне паренек. Смотрит как на икону:
„Дайте, пожалуйста автограф“. А я злой, как черт. Иди ты, говорю…
Недавно был в Монреале. Жил в отеле „Хилтон“. И опять-таки мне не спалось. Выхожу на балкон покурить. Вижу, стоит поодаль мой любимый киноактер Чарльз Бронсон. Я к нему. Говорю по-французски: „Вы мой любимый артист…“ И так далее… А тот мне в ответ: „Гет лост…“ И я сразу вспомнил того парнишку…»
Заканчивая эту историю, высоцкий говорил:
– Все-таки Бог есть!
Аксенов ехал по Нью-Йорку в такси. С ним был литературный агент. Американец задает разные вопросы. В частности:
– Отчего большинство русских писателей-эмигрантов живет в Нью-Йорке?
Как раз в этот момент чуть не произошла авария. Шофер кричит в сердцах по-русски: «Мать твою!..»
Вася говорит агенту: «Понял?»
Рубин вспоминал:
– Сидим как-то в редакции, беседуем. Заговорили о евреях. А Воробьев как закричит: «Евреи, евреи… Сколько этот антисемитизм может продолжаться?! Я, между прочим, жил в Казахстане. Так казахи еще в сто раз хуже!..»
Нью-Йорк.
Захожу в русскую книжную лавку Мартьянова. Спрашиваю книги Довлатова и Уфлянда – взглянуть. Глуховатый хозяин с ласковой улыбкой выносит роман Алданова и тыняновского «Кюхлю».
Удивительно, что даже спички бывают плохие и хорошие.
В Лондон отправилась делегация киноработников. Среди них был документалист Усыпкин. На второй день он исчез. Коллеги стали его разыскивать. Обратились в полицию. Им сказали:
– Русский господин требует политического убежища.
Коллеги захотели встретиться с беглецом. Он сидел между двумя констеблями.
– Володя, – сказали коллеги, – что ты наделал?! Ведь у тебя семья, работа, договоры.
– Я выбрал свободу, – заявил Усыпкин.
Коллеги сказали:
– Завтра мы отправляемся в Стратфорд. Если надумаешь, приходи в девять утра к отелю.
– Навряд ли, – произнес Усыпкин, – я выбрал свободу.
Однако на следующий день Усыпкин явился. Молча сел в автобус.
Ладно, думают коллеги, сейчас мы тоже помолчим. Ну а уж дома мы тебе покажем.
Долго они гуляли по Стратфорду. Затем вдруг обнаружили, что Усыпкин снова исчез. Обратились в полицию. В полиции им сказали:
– Русский господин требует политического убежища.
Встретились с беглецом. Усыпкин сидел между двумя констеблями.
– Что же ты делаешь, Володя?! – закричали коллеги.
– Я подумал и выбрал свободу, – ответил Усыпкин.
Лет двадцать пять назад я спас утопающего. Причем героизм мне так несвойственен, что я даже запомнил его фамилию – Сеппен. Эстонец Пауль Сеппен.
Произошло это на Черном море. Мы тогда жили в университетском спортлагере. Если не ошибаюсь, чуть западнее Судака.
И вот мы купались. И этот Сеппен начал тонуть. И я его вытащил на берег.
Тренер подошел ко мне и говорит:
– Я о тебе, Довлатов, скажу на вечерней поверке.
Я, помню, обрадовался. Мне тогда нравилась девушка по имени Люда, гимнастка. И не было повода с ней заговорить. А без повода я в те годы заговаривать с женщинами не умел.
И вдруг такая удача.
Стоим мы на вечерней поверке – человек шестьсот. То есть весь лагерь. Тренер говорит:
– Довлатов, шаг вперед!
Я выхожу. Все на меня смотрят. Люда в том числе.
Тренер говорит:
– Вот. Обратите внимание. Взгляните на этого человека. Плавает как утюг, а товарища спас!
«Пока мама жива, я должна научиться готовить…»
Критик П. довольно маленького роста. Он спросил, когда мы познакомились, а это было тридцать лет назад:
– Ты, наверное, в баскетбол играешь?
– А ты, – говорю, – наверное, в кегли?
Александр Глезер:
– Господа: как вам не стыдно?! Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете!
В Союзе появилась рок-группа «Динозавры». А нашу «Свободу» продолжают глушить. (Запись сделана до 89-го года). Есть идея – глушить нас с помощью все тех же «Динозавров». Как говорится, волки сыты и овцы целы.
Что будет, если на радио «Либерти» придут советские войска?
Я думаю, все останется на своих местах. Где они возьмут такое количество новых халтурщиков? Сколько на это потребуется времени и денег?
Наш сын Коля в детстве очень любил играть бабушкиной челюстью.
Челюсть была изготовлена американским врачом не по мерке. Мать ее забраковала. Пошла к отечественному дантисту Сене. Тот изготовил ей новую челюсть. А старую мать подарила внуку. Она стала Колиной любимой игрушкой.
Иногда я просыпался ночью от ужасной боли. Оказывалось, наш сынок забыл любимую игрушку в моей кровати.
Мы купили дом в горах, недалеко от Янгсвилла. То есть в довольно глухой американской провинции. Кругом холмы, луга, озера… Зайцы и олени дорогу перебегают. В общем, глушь.
Еду я как-то с женой в машине. Она вдруг говорит:
– Как странно! Ни одного чистильщика сапог!
Моя жена Лена – крупный специалист по унынию.
Арьев:
«…Ночь, Техас, пустыня внемлет Богу…»
Оден говорил:
– Белые стихи? Это как играть в теннис без сетки.
Как-то беседовал Оден с Яновским, врачом и писателем. Яновский сказал:
– Я увольняюсь из клиники. После легализации абортов мне там нечего делать. Я убежденный противник абортов. Я не могу работать в клинике, где совершаются убийства.
Оден виновато произнес:
– I could.(Я бы мог).
К нам зашел музыковед Аркадий Штейн. У моей жены сидели две приятельницы. Штейну захотелось быть любезным.
– Леночка, – сказал он, – ты чудно выглядишь. Тем более – на фоне остальных.
Парамонов говорил о музыковеде Штейне:
– Вот, смотри. Гениальность, казалось бы, такая яркая вещь, а распознается не сразу. Убожество же из человека так и прет.
Алексей Лосев приехал в Дартмут. Стал преподавать в университете. Местные русские захотели встретиться с ним. Уговорили его прочесть им лекцию. Однако кто-то из новых знакомых предупредил Лосева:
– Тут есть один антисемит из первой эмиграции. Человек он невоздержанный и грубоватый. Старайтесь не давать ему повода для хамства. Не сосредоточивайтесь целиком на еврейской теме.
Началась лекция. Лосев говорил об Америке. О свободе. О своих американских впечатлениях. Про евреев – ни звука. В конце он сказал: