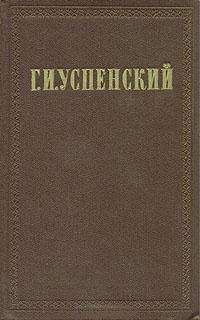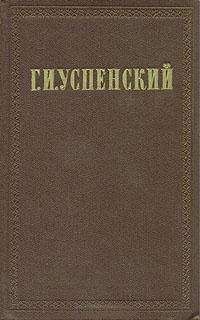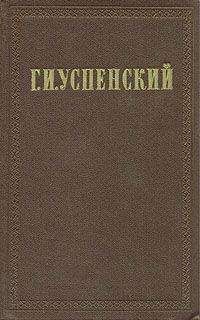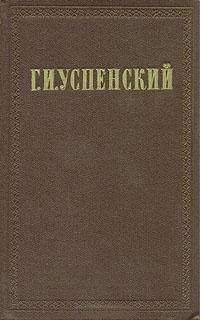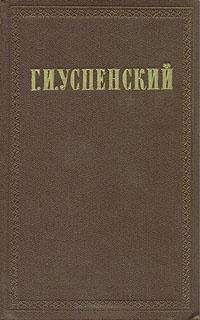Глеб Успенский - Живые цифры
— Поспеем! — едва слышно донеслись слова извозчика, сопровождаемые новым ударом, огласившим, как выстрел, пустынную Гончарную.
Извозчик обогнал нас. Я едва видел белошвейку, но и виденного было достаточно, чтобы знать, что она в величайшем беспокойстве. Она, сидя на одном месте, была в каком-то непрерывном волнении, и рука ее поминутно прикасалась к плечу извозчика.
Извозчик драл свою клячу, высоко замахиваясь кнутом, даже поднимался во весь рост и махал в воздухе концами вожжей.
— Пошел! Поезжай скорей! — закричал и я моему извозчику. — Опоздаем!
Я был вполне уверен, что белошвейка едет на «гигиен-станец», хотя присутствие коробки с каким-нибудь нарядом смущало меня. Может быть, она везет наряд какой-нибудь имениннице и спешит так рано? Но, не спуская с обогнавшей меня девушки глаз, я увидел, что извозчик ее поворачивает с Гончарной направо и именно туда, где должна быть Преображенка, и что девушка даже приподнялась на извозчике, что она, кажется, даже пихает его в спину, что лошадь уже скачет всеми четырьмя ногами сразу, осыпаемая непрерывными ударами.
— Пошел! — закричал я, как только мог. — Прибавлю! Пошел во всю мочь!
Извозчик, чувствуя что-то небывалое, также пришел в возбужденное состояние и также принялся «лупить» свою клячку что было мочи. Но трудно было «разжечь» несчастную, утомленную ночною ездою скотину, и она хотя и начала так же, как лошадь обогнавшего нас извозчика, прыгать всеми четырьмя ногами, но надлежащего успеха от всех этих стараний не получилось, и мы, при повороте с Гончарной к Казачьему плацу, встретили извозчика, который вез белошвейку, уже порожняком. Он ехал медленно, весь в клубах пара, исходившего от лошади.
— Опоздали? — почему-то впопыхах воскликнул мой возница, неустанно нахлестывая клячу.
— Первый звонок был! — не спеша ответил извозчик, собираясь закурить папироску. — Пожалуй, опоздаете…
Это известие заставило моего возницу сделать какое-то невозможное усилие — и руками, и горлом, и кнутом — и мы, наконец-таки, очутились около крыльца «Преображенки».
2Опрометью вбежал я в этот покойницкий вокзал и сразу натолкнулся на такую сцену: где-то звенел железнодорожный звонок, шла какая-то суета, но помещение было уж пусто, и только у двери столпилось несколько служащих, группой окруживших белошвейку. Тут были жандармы, купец, артельщики в фартуках и какие-то люди, — и все это громко говорило, в то время когда белошвейка, сидя на скамейке рядом со своим коробом, заливалась горючими слезами. Группа народа, толпившаяся около нее, один перед другим старались в чем-то убедить ее, и в тоне разговаривающих была слышна сочувственная нота.
— Ах, боже мой! Ах, боже мой! Неужели я не увижу его? Мальчик мой!.. — облитая слезами в три ручья, захлебываясь ими, хрипло шептала «аккуратная» фигурка белошвейки.
— Сударыня! ничего теперь невозможно! — убедительным тоном говорил артельщик.
— У меня есть квитанция! — поднимая мокрое лицо на артельщика и захлебываясь словами, говорила она. — Вот, ведь я говорю… есть!
В руках ее виднелась какая-то бумажка.
— Эта квитанция не может способствовать!..
— Ведь это на моего мальчика!
— Оно точно! Действительно на мальчика вашего — только что не такие нумера…
— Мой мальчик! Но ведь это его нумер?
— Это ихний нумер, верно! Только что это приемная квитанция, значит, живого младенца, а здесь накладные мертвецкие… Этот нумер не может подойтить!
— И напрасно вы изволите беспокоиться! — прибавил другой сочувствовавший горю человек. — Окончательно по этой квитанции покойника не разыскать. На живого один нумер, а на мертвого другой… Который нумер? Позвольте?
Белошвейка рыдала в платок, но квитанцию дала все-таки.
— Четыреста восемьдесят один. Ну он там и обозначен умершим, а в приемке у него, может, двадцать девятый или какой там… И окончательно оставьте! Господь прибрал — что ж? Кабы ежели в покойницкой были…
— Неужели я не увижу? Господи!.. Дайте мне эту квитанцию! Может быть, я увижу… Там еще поезд, пассажирский.
Раздался третий звонок.
— Ах, милый мой!.. Уедет!.. Нет, я побегу на вокзал!..
Она быстро вскочила с лавки, схватила картонку, уронила ее и, несмотря на самые задушевные доказательства, что ничего она не добьется, быстро побежала, пробиваясь сквозь толпу. Я схватил ее коробку и побежал вслед за ней, а за нами высыпала и вся толпа.
— А ты, коли рожаешь ребенка, так ты его не бросай, как щенка! — вдруг, как обухом по лбу, громко и отчетливо проговорил какой-то из слушателей, видом лавочник.
Бедная белошвейка остановилась, и хотя она и была вся измучена и лицо ее опухло от слез, — в ней проснулась на минуту бойкость «белошвейки», которая иногда вынуждена давать дуракам сдачи.
— Послушайте! — смело сказала она, останавливаясь. — Вы как смеете говорить дерзости?
— Чего бормочешь! — прикрикнули на него некоторые из артельщиков, — нашел время галдеть!
— Да, — настойчиво болтал нравоучитель. — Коли родишь, так не бросай! А то только бы хвостом повертеть? Нет, шалишь! Вот и поплачь, матушка, ничего!
— Перестань, дурак! — закричали сочувствующие бедной женщине люди.
Дурак не перестал бормотать, и это бормотанье как будто приковало ноги девушки к земле: она не трогалась с места и гневно смотрела на удалявшегося дурака.
— Пойдемте! — сказал я. — Может быть, поезд еще не ушел.
Она пошла, но слова нежданного дурака, очевидно, ошеломили ее, и она, сделав два-три шага быстрых и стремительных, вдруг замедлила походку и, продолжая рыдать, говорила гневно и медленно:
— Скверный! Чтоб я бросила ребенка… Что я, собака? Я бросила! Когда мне кормить нечем? Чем я буду кормить?
Опять градом льются ее слезы, и мы быстро идем вперед, И вдруг опять остановка.
— Кабы у меня были родные или кто-нибудь на свете… У меня никого нет! Я сирота! Каждый год у нас родит кухарка, и все ребята живы… Девять рублей получает, платит в деревню… И все живы… А я?
Горькие слезы.
— …Я еще и в мастерицы не вышла… Скверный какой!.. Я бы его нашла потом! Их в деревню отдают… Бросила ребенка! Подлец этакой! Я бы нашла его…
— Пойдемте, пойдемте, пожалуйста! — говорил я.
Она опять побежала и опять остановилась:
— Я одна кругом. Он тоже копейки не имеет… ученик… Меня с шести лет мучают работой… У меня даже своего лоскута нет… Ведь за них казна платит, как же мне быть?.. Я бы уж нашла его!.. У меня у самой молока было ужасть! Двух бы прокормила! дурак эдакой, невежа! Вся рубашка молоком-то… Чем я виновата?.. Всем можно родить, а мне нельзя? Гадкий какой дурак, бессовестный!.. Теперь и не найтить моего мальчика!.. Ах, милый мой! Голубчик мой! Пойдемте, ради бога, скорее!
До самого вокзала она неслась, как ветер, и платок поминутно мелькал около ее лица.
— Опоздали? — впопыхах спросили мы у татарина в буфете, сказав, зачем мы пришли.
— Да, — проговорил он, поглядев на круглые часы, — сейчас уйдет!
— Что ж? — сказал я, — теперь уж, право, нечего!..
Она стояла неподвижно. Я взял ее под локоть, привел к скамейке и посадил. Она отвернулась от меня, как-то перевесилась через ручку деревянного дивана и молча, не говоря ни слова, предалась своему безграничному горю. Туго застегнутый, «аккуратный» хозяйский дипломат дрожал под истерическим дрожанием всего ее тела.
— Голубчик! — чуть-чуть шептала она… — Прощай! Прощай, ангельчик мой!
И будто поцелуи слышались тихие…
Я сидел около нее недвижно и боялся дохнуть.
3Помню, что она ушла с опухшим лицом, но не забыла задернуть его кусочком вуальки и вообще постаралась принять, насколько в ней хватало силы, обычный вид белошвейки, опять тип той самой, которую всякий видит в толпе с коробкой в руках.
— Ой, — сказала она сиплым шопотом, взглянув на часы, — одиннадцатый! Теперь полковница меня съест! Уж давно надо было быть! Ах, боже мой…
Толпа, схлынувшая с почтового поезда, поглотила ее «фигурку», ставшую опять «аккуратной»… Я просидел еще довольно долго, не смел тронуться с места под впечатлением чего-то ужасного. Наконец я встал со скамейки и пошел.
— Господин! — остановил меня сторож с бляхой. — Вот бумажку обронили!
Я взял бумажку: это была квитанция на принятие ребенка белошвейки.
А ведь она как целовала эту квитанцию-то! И теперь у нее ничего не осталось. Она опять должна девяносто девять частей жизни посвятить работе на хозяйку, заботам о полковнице, которая «выходит из себя», если на ней дурно «сидит», огорченью за неуспех этих полковниц из-за туалета, скорби хозяйки о недостатке средств на игру в карты — и только сотую часть своему материнскому делу, чувству, обязанности.
-
Так вот какие иногда многосложные вещи таятся в статистических дробях! Думаешь, думаешь над этими ноликами, делаешь разные вычисления, а нежданная слеза возьмет да все и запачкает!