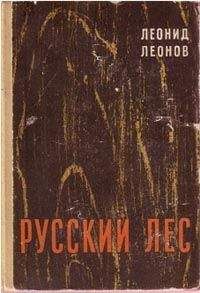Валентина Колесникова - Гонимые и неизгнанные
Что-то Бог даст теперь - а я живу все как на ночлеге - и так привык к мысли быть в Тобольске, что эта неудача меня бы страх огорчила.
Вы как-то мне говорили, что хотели бы прочесть жизнь св. Терезии. Я тогда вам не успел передать маленькую книжку, где есть сокращенная её жизнь и некоторые из её сочинений. Примите её от меня на память. В ней много есть хорошего и сообразного с вашими чувствами. Футляр я сделал нарочно сам, чтобы было что-нибудь тут и моей работы.
Не поленитесь отвечать мне с урядником Шошиным, который провожал Барятинского. Барятинский отправляется отсюда, прожив со мною в одном доме более месяца.
Давыдовы наши уже 3-й месяц здесь - они предобрые люди, и я у них довольно часто бываю. Малютки их премиленькие. Сашенька, которую вы оставили младенцем, прехорошенький ребенок - и собой, и характера ангельского.
У нас прошли слухи, будто Нарышкин ранен в последней экспедиции. Напишите, пожалуйста, не знаете ли вы чего об этом. Если это правда, то мне очень прискорбно - бедная Лизавета Петровна будет в отчаянии...
Полюбил!
...Он ещё раз перечитал последние строчки её письма. Встал и принялся ходить по комнате - по диагонали, как привык ходить за год по своей одиночке в Петропавловской крепости. Почему-то зазвучала шекспировская фраза - "Нет повести печальнее на свете". "Нет?" - спросил вслух и продолжал вслух же рассуждать: "Да, это печально, погибли два юных существа. А мы? Уже не юные. Не погибли. Мы заживо похоронены в Сибири. Любим. Впервые в жизни. И навсегда. И не можем быть вместе. Что печальнее? Что печальнее?"
Он подошел к столу, взял перо, задумчиво повертел в руках, бросил и, схватив письмо Натали, осыпал его поцелуями, потом приложил к лицу и пробормотал сквозь слезы: "Любимая, единственная! Что, что нам делать? Что есть у меня, кроме моей любви? Я нищ - и не только сейчас, всегда. У меня нет будущего - только бедность и безумный мой брат. Что могу дать я тебе? Ты бежала от бедности в брак с Михайлой Александровичем. Зачем же опять убегать тебе в бедность? И он! Если б только богат! Но ведь добр, благороден, умен, любит тебя без памяти. И он друг мой!"
Павел мечется по комнате, потом, обессиленный, падает на колени перед иконами:
"Господи, вразуми её, дай силы мне!"
Он долго то вслух, то беззвучно молится. Потом, успокоенный, поднимается и долго пишет ответ любимой. Складывает листки и тихо, будто душа вздохнула, будто само сердце обрело голос, произносит:
"Есть повести печальнее..."
Видимо, после этого для всех, и прежде всего для нее, Натали, надел он на свою любовь строгие одежды верной дружбы и никогда, в течение 20 лет, не позволял себе снимать их - до марта 1857-го. А 28 марта 1857 года посылает он Наталье Дмитриевне письмо-исповедь, первое и единственное признание в любви. В нем - и история его чувства, и объяснение многих поступков.
"С первого взгляда, как ты проезжала через Красноярск в Енисейск (это было в 1834 году. - Авт.) ты уже мне показалась чем-то отличным для меня. Но я был в таком аскетическом настроении, что на этом не останавливался".
..."Какая нездешняя женщина, - подумал он тогда и испугался: - Что значит нездешняя?" Не нашел и не стал искать ответа. Но несколько дней после этого в самые неожиданные моменты вдруг наплывали на него эти огромные глаза - они грустили и смеялись, вопрошали и звали куда-то.
"Что это со мной?" - недоумевал он. И пожалуй, впервые в жизни подумал о том, что ни одна женщина до сих пор не привлекала его внимания. В годы учения в Муравьевском училище они с братом часто бывали в свете. Он знал, что нравится, и относился к этому как к должному. Павел любил балы. Вся сановная Москва вывозила на них своих дочерей - и он понимал, что для него, хоть и небогатого жениха, непременно сыщется всей большой родней та, что станет его женою. Может быть, он даже влюбится. Но случится это или нет, брак все равно заключается на небесах, и он только подчинится воле Всевышнего. И ему даже в голову не приходило хлопотать об этом предмете.
Он любил самую атмосферу бала: какая-то прилежность и налаженность бальной суеты сливалась в образ праздника, в единый живой организм, уносящий его на несколько часов в беспредметные дали, в сверкающее бездумье и беззаботность. И почему-то тут же представил её - в белом платье - и лицо, из одних этих огромных, выманивающих его душу из заточения глаз.
"Когда вы переехали в Красноярск (в конце 1835 года. - Авт.), я уже с увлечением беседовал с тобою, и раз, когда ты рассказывала о каком-то архимандрите Павле, невольно проговорилась, что будешь тем же для меня. Все это скользнуло без особой остановки, ибо духовное состояние мое было ещё слишком сосредоточено"...
Его душа просыпалась долго и недоверчиво, её пробудилась сразу. Видимо, пришло её время полюбить. Чувство - страстное, бурное, неудержимое - находило выход лишь в письмах: Натали, безошибочно увидев притягательное родство их душ, так же зорко разглядела и то, что чувственная его природа ещё спит, неопытная и невинная, и Бог весть, как откликнется на прямой её зов. И Наталья Дмитриевна пишет Павлу Сергеевичу письма-исповеди о поразившей её сердце любви, не называя имени любимого. Павел Пушкин ошеломлен. Твердыня его понятий о таинстве и святости брака зашаталась. Он почитает это настоящим горем для нее.
"Когда мне пришлось вмешаться в твое горе, то не самонадеянность одна, а какая-то несознательная радость, что я могу безгрешно помогать человеку, в котором я так ясно видел печать Божию, меня увлекла, как вихрем".
Когда Наталья Дмитриевна, наконец, признается, что предмет её любви он сам, Павел Пушкин повергнут - не только этим признанием, но и тем, что понимает: его собственные чувства вырвались из заточения. Радость, недоумение, бессильная попытка прикрикнуть на свою и её любовь, слезы умиления и слезы боли, мольбы к Богу о помощи и вразумлении - все вместили торопливые строчки писем февраля и марта 1838 года. В письме-исповеди 1857 года, когда без этой любви Павел Сергеевич уже не мыслит существования, а страсть вошла в более спокойное русло, он так объяснит тогдашнее свое состояние:
"Последующее уже было перемешано - тут была и борьба, и увлечение, и угождение твоей увлекающей, как быстрина потока, природе. Тут я не только уже невольным чувством, но и волею усиливал свою привязанность, чтобы дать привал увлекавшему тебя чувству. Таким образом, запуталось так, что уже сердцу не было иного выхода, как переходить от невольного к произвольному увлечению. Весь мир для меня исчез. Одно только существо было для меня дорого, его счастье, и спокойствие, и возвращение к Богу были моею молитвою и желанием".
В 1838 году М.А. Фонвизина переводят на поселение в Тобольск. Натали и остающийся в Красноярске Павел, подстегивая себя напоминаниями о чувстве долга, надеются на спасительность разлуки. В письмах этого года он прибегает к менторству, потому что Натали мечется, затягивает отъезд, придумывая для мужа какие-то причины. Но оно, это менторство, намеренно, оно сквозь слезы:
"Только не начинайте ничего опрометчивого, по какой-то минутной вспышке. Это вредно для вас - на что это похоже: то давай ехать, то опять валяться в ногах "батюшка мой, останься", как вы делали. Впрочем, не осуждая вас говорю, голубушка моя милая, ибо знаю, что вы не знаете, куда кинуться, чувствую это и понимаю. Однако эти романтические вспышки вы бы, кажется, имели уже довольно сил оставить".
Трудным был этот год для Натальи Дмитриевны, безутешным для Павла Сергеевича - это понятно даже по очень сдержанным фразам его в письмах из Красноярска сентября 1838-го - начала 1839 года.
"Я стал гораздо рассеяннее и много переменился, вы это сами уже давно заметили. И знаете также, что для меня это не радость. Внутренняя потеря не вознаграждается ничем внешним. Рассеянность заглушает только на короткое время тоску души, которая с тем большим прискорбием чувствует свое уклонение, а пересилить уже не может" (30 сентября 1838 года).
"Есть положения, что и взгляд на самого себя так бывает тяжек, что бегаешь туда и сюда, чтобы заглушить вид своего внутреннего опустошения. Горько познавать все это на опыте, но в путях Божьих, кто знает, может, и это нужно, чтобы узнать цену даров Божьих, может быть, бывает нужно их лишиться - дай Бог, чтобы только не навсегда" (29 октября 1838 года).
"Последнее письмо ваше я читал, и мне страх было грустно видеть, что вы все хвораете. Да и хандра ваша, кажется, не проходит - вы все постоянны в своей ненависти к Тобольску. Желаю, чтобы вы были так же постоянны в ваших дружеских расположениях к людям, которые дают нам высокую цену" (11 января 1839 г.).
В феврале 1840 года они снова встречаются - братья Бобрищевы-Пушкины тоже переведены в Тобольск. Но все изменилось.
"Я тут только увидел, - пишет Павел Сергеевич в исповеди 1857 года, что ты перешла пропасть, а я за нею или чуть ли не в ней и до сих пор остался. Я летел как на крыльях, чтобы застать тебя в Тобольске. Твой прием, дружеский, но совсем в другом роде, меня озадачил. Духом я благодарил Бога о твоей перемене, но собственное мое чувство тем сделалось сознательнее. Возвращение к чувственным искушениям ввергло меня в совершенное уныние и ропот. Твоя помощь оставалась моею единственною надеждою, твоя невольная, под влиянием Божьим, иногда суровость заставляла часто на тебя сердиться. Но в самом сердце скрывалась глубокая, неискоренимая привязанность, потому что один ласковый взгляд или слово - и все забывается. Последующие немощи твои опять сделали мне тебя доступнее, хотя они и причиняли мне сердечное горе, но сближение твоей нищеты с моею воскрешали воспоминания благие. Одним словом, в других только фазах, но тут и там ты одна была сосредоточением всей моей внутренней жизни. Для меня люди существовали и теперь существуют только в отношении к тебе".