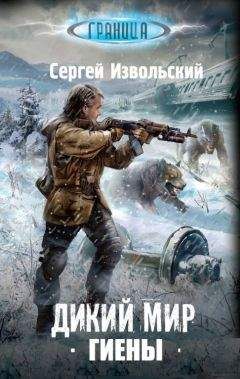Петр Боборыкин - Жертва вечерняя
— Как! — спрашиваю я его: — ты отрицаешь силу любви и нравственного чувства? Да после этого что же останется в жизни: есть, пить, спать да копить деньги?!..
Степа взял меня за обе руки и по своей привычке приблизил ко ине свое лицо, пристально глядя на меня.
— Маша, — заговорил он медленно: — да ты мне признайся по совести: ты сама сочинила эту особую возрождающую любовь, или тебе сочинила ее Лизавета Петровна?
— Она показала мне новый иир!..
— Оставь ты мистические фразы. Они ведь ничего не обозначают. Что это такое за с возрождающая сила любви?.. Разве это всемирное средство, панацея какая-нибудь? Ты добрая женщина и женщина пылкая; стало быть, можешь не только делать добро, но и сильно привязываться. Другой человек добр, но темперамента не имеет и на сильные привязанности неспособен. Все, стало быть, сводится тут к личному характеру. Ты сама же мне говорила: умри сегодня Лизавета Петровна, от ее дела ничего не останется. Значит, силу любви нельзя передавать так, как можно передать знание, мысль или опыт.
— Я это чувствовала отчасти, — сказала я Степе.
— Вы кидаетесь на такой вид падения, который у вас здесь перед глазами. Но если бы я тебя, Маша, взял с собою и повез куда-нибудь в Нижегородскую губернию, в большое раскольничье село. Присмотрелась бы ты к нравам и, наверно, нашла бы, что все молодые девки и бабы принадлежат к миру падших женщин. Там нет даже материальной нужды, заставляющей торговать собою. Там просто обычай, привычка, назови как хочешь. Бороться с безнравственностью надо, стало быть, опять на новый фасон. И до тех пор, пока все виды того, что называется проституцией, будут вызывать один и тот же сорт пропаганды и добра, все будет стоять на одной и той же точке замерзания… Друг ты мой, Маша, проникнись ты той истиной, что отдельные усилия ничего не могут сделать, пока общество не захочет изменить условий, из которых выходит женское падение. Ты сама на себе должна это чувствовать. Твой кризис был вызван твоими хорошими инстинктами. Но почему же ты не можешь успокоиться? Откуда у тебя эта тревога? — От сознания, что ты все-таки ничем не застрахована от вторичного падения.
— Степа!.. — остановила я его.
— Не смущайся, Маша. Повторяю: ты не застрахована от вторичного падения. И одна мистическая сила любви, которую проповедует Лизавета Петровна, не удержала бы тебя, если тебя поставить в известные условия…
Я уж больше не возражала. Мне не совсем было ясно, что хотел вывести Степа из своих рассуждений; но я прекрасно понимала, что его взгляд отзывался как нельзя лучше на мою душевную тревогу.
— А что же нужно, Маша, чтобы все общество не прикладывало только смягчающих пластырей к своим ранам, а излечивало себя в корень?
— Почем я знаю, Степа?
— Нужно, чтобы каждый из нас начал также с корня. Хочешь ты служить человечеству, возьми такую задачу, где бы больше значило твое личное сострастие. Падшие женщины самый, и не говорю безнадежный, но скороспелый вопрос. Как к нему приступить, мы все узнаем только тогда, когда займемся иначе своей личной жизнью и первыми насущными нуждами человеческого бытия. Тебе двадцать два года. Энергия в тебе есть. Брось все эти убежища, приюты. Запрись и поработай немножко над самой собой. Поживи, Маша, хоть полгодика спокойно, не кидаясь туда и сюда, поживи со своим маленьким мирком, узнай хорошенько свои истинные сиипатии и наклонности, определи хоть сколько-нибудь: способен ли твой ум на то, чтобы взяться с аза и быть со временем годной, ну хоть выучить сына грамоте.
— Как! только-то? — спросила я.
— А это мало, Маша?
— Да вспомни ты, Степа, что ты сам мне говорил здесь же, в этой комнате.
— А что я тебе говорил, Маша?
— Ты прямо мне объявил, что всякие развивания вздор; что если характер сложился, так ничего уже с ним не сделаешь. А теперь ты проповедуешь совсем противное!
— Вовсе нет, Маша. Я тебе говорил, что бесполезно развивание, начитывавье с чужого голоса разных хороших слов и мыслей женщинам, неспособным ни на какое развитие. А я тебе предлагаю совсеи другое. Ты сама видишь, что сердце у тебя доброе, ум восприимчив; но у тебя нет никакой основы действий, т. е. ты не работала умом своим ни в каком определенном направлении. Я и теперь не желаю развивать тебя, а прошу только осмотреться и дать себе ясный отчет, способны ли твой ум и твоя воля на то, чтоб больше не блуждать, а утвердиться хоть в одном пункте.
В голове у меня ходил какой-то туман. Я сразу не могла сообразить всего. Степа говорил горячо, но слишком пространно. Он точно боялся сразу обрубить…
Теперь я вижу, что смысл его рассуждений вот какой:
"Брось все твои затеи и проповеди падшим женщинам. Ты сама какой то флюгер. Начинай учиться с азбуки. Перестань верить в силу любви. Никакой такой силы нет, а есть ум. И так как ты еще глупа, так поступай к нам в выучку."
О, проклятые мужчины! Вы, с вашим отвратительным эгоизмом, делаете над нами опыты, как над лягушками! Что же такое поступок Степы со мною, как не опыт? Он рассудил так:
"Припустим мы ее сначала к добру и к мистическим затеям и отойдем в сторонку, подождем: что-то из этого будет. Нужды нет, что она поверит своему возрождению, возверует в могущество и вечную красоту любви. Мы ей объявим в одно прекрасное после обеда, что это все паллиативные средства!"
Опыты и только опыты! Да где же у вас сердце?
12 июня 186*
Вечер. — Среда
Я два дня не выходила из дому. Я не приняла даже Степы и написала ему, что желаю остаться одна. Перешла я через ряд всяких мыслей. Думала, что у меня лопнет голова. Но я не могу оставаться без ответа на то, что раз зародилось во мне. Все опыты, которые жизнь и люди производили надо мной, не дают мне возможности ни в какую критическую минуту остановиться на полпути. Одно из двух: права или Лизавета Петровна, или Степа. Зачем это я хватаюсь за имена, за людей? Экая бабья привычка! За этими именами, за этими людьми стоят принципы. Я так омужчинилась, что не могу уже иначе выразиться, как мудреными словами!
Положим, что опыт, произведенный надо мной Степой, был жесток; но не говорила ли я сама себе, накануне нашей конференции, почти того же самого? Он только приклеил разные ярлычки к тому, что я смутно сознавала.
Надо начать с азбуки… Стало быть, следует бросить Лизавету Петровну и все ее затеи.
Но хорошо ли это, честно ли? Женщина привязалась ко мне, видит во мне свою преемницу, излила в меня всю теплоту своего евангельского сердца. И вдруг я ей объявлю: "убирайтесь вы от меня прочь! В вас нет рационального принципа, вы боретесь с ветряными мельницами, у вас нет царя в голове"!
Ведь это отвратительный цинизм мужской сухости!
Но ведь не могу же я сознательно обманывать себя? к несчастью, у меня голова так устроена, что коль скоро я дошла или меня натолкнули на какой-нибудь вывод, кончено! Сердце мое смолкает, оно уже не может защищать того, что голова признала фальшивым.
Неужели это достоинство?
Может быть, Степа раньше меня самой открыл во мне такое свойство, потому и приступил к опытам.
Ведь он меня все-таки любит. В этом я сомневаться не могу. Не стал бы он дергать меня за ниточки, как марионетку, если б вперед не видал, что для меня оно пользительно.
Да, я должна придти к чудовищному решению: бросить совсем Лизавету Петровну и все то, с чем связана ее личность. Другого исхода нет. Я и без Степы вижу, что так следует поступить, если я считаю один принцип лучше другого. Продолжать с Лизаветою Петровной простые светские или приятельские отношения — невозможно. Она не такая женщина. Наезжать от времени до времени в приют, в школу, туда-сюда — также нелепо. Если я переменю принцип, я не захочу являться в качестве посетительницы, дамы-патронессы; a участия в не буду принимать потому, что нельзя же, раз сознавши бесплодность какого-нибудь дела, а главное, свою неспособность, все-таки совать свой нос и прописывать разные "паллиативные средства".
Значит, надо бросить… Но насколько же времени? Навсегда, или только на время моего искуса?
Теперь я этого не знаю; но рассуждать мне иначе нельзя.
Ведь без жертв ни в чем не обойдешься! Надо начинать с азбуки; стало быть, следует принести в жертву истинному принципу все свои личные engouements.
Истинный принцип… Страшно выговорить… А если то опять только опыт, что тогда?…
Нет, он не может быть выдуманным. Меня все влекло к нему. Я, в сущности, никогда не сомневалась в том, что нужно рано или поздно оборвать свою жизнь на чем-нибуив решительном, что ни для какого дела я не имею твердых правил, что в голове у меня один сумбур, а стало быть, на веки-вечные он и останется, если я буду мириться с полумерами.
Милая, дорогая моя Лизавета Петровна! Я пишу и плачу. Мы с ней прощаемся, быть может, навеки, прощаемся… теперь вот, сейчас… Я уж больше не увижу ее. Мне страстно хочется поехать к ней и в последний раз припасть к ее груди, благодарить ее все-таки за то добро, беспредельное и горячее, каким она ответила на мой душевный крик.