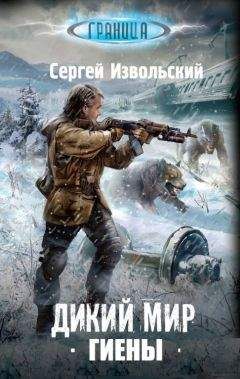Петр Боборыкин - Жертва вечерняя
Когда я подумаю: в каком забросе он был в течение трех почти лет, — одно это сознание должно усилить мои заботы об нем.
Но ведь он все равно что падшие женщины. Любовь любовью, а дело делом. Володька потребует также руководящей нити.
6 июня 186*
После обеда. — Четверг
Я решительно теряюсь. Этак нельзя идти дальше. Это — одно "толчение воды в ступе"!..
Из моих пансионерок самая милая, симпатичная — Аннушка. Я на нее надеялась, как на каменную стену. Думала я: побудет она еще месяц, другой, отыщу ей место, устрою, и с Богом!
И что же?
Приезжаю в приют. Начинаю спрашивать ее, что она делала, прочла ли что-нибудь, написала ли свой урок?
Она, против обыкновения, стоит, смотрит исподлобья.
— Что ты, Аннушка, какая нынче? — говорю я ей. Опять молчит.
Я ее приласкала, говорю:
— Какое у тебя горе? Скажи мне. Ты знаешь, что я люблю вас всех; а в тебе я вижу больше добра… Ты мне особенно дорога.
Гляжу на нее: лицо остается все таким же хмурым.
— Скажи же, Бога ради, Аннушка, — повторяю я, — не мучь меня.
Тут она кидается предо мною на колени и начинает говорить умоляющим голосом:
— Матушка Марья Михайловна, невмоготу мне больше, воля ваша, невмоготу; видимши все ваши благодеяния… как вы об нас, скверных, заботитесь, я бы лютый зверь была, кабы всего этого не чувствовала… Только, матушка, как перед Богом, вам говорю, я теперь сама не своя. Ни работа, ни книжки, ни божественное мне в голову нейдут. Сразу никак невозможно нам отстать от прежнего житья. Въелось оно в нас, Марья Михайловна. Окаянное наше тело опять на волю просится. Отпустите вы меня, Христа ради, недельки на три погулять. Больше я не хочу, а три недельки мне нужно!.. Я бы уж так навек простилась с грехом, а там, после, берите меня и делайте что вам будет угодно. Смущает меня бес денно и нощно. Коли не пустите, я на себя руки наложу!
Все это выговорено было без слез, без рыданий, но с такой силой, с таким неотразимым убеждением, что я сейчас же почувствовала свою полную немощь.
Увещевать нельзя было. Я было начала просить, умолять Аннушку. Она меня остановила и строгим, но задушевным тоном сказала:
— Марья Михайловна, я ведь не злодейка. Если б я могла пересилить себя, разве я допустила бы вас изнывать и надрываться надо мной, скверной девкой? Кабы вы знали, чего мне стоило выговорить все то, что я в себе почуяла. Я в себе не вольна, матушка. Запрете меня — грех случится, я вам прямо говорю.
Какое страшное поражение!
Я не знала, за что схватиться. Если б еще около меня была Лизавета Петровна! Говорю я Аннушке:
— Если ты меня не хочешь выслушать, Лизавета Петровна скажет тебе лучше меня, что тебе нужно сделать, чтобы не смущал тебя дух…
Аннушка улыбнулась ядовитой улыбкой.
— Знаю я наперед, матушка, что Лизавета Петровна начнут мне толковать. Разве я себя выгораживаю? Я кляну себя и денно и нощно, да толку-то в этом мало…
И тут, точно по внезапному отчаянному побуждению, она схватила меня за руку, начала целовать и крикнула на всю комнату:
— Пустите, пустите меня на три недельки!
Что же было делать? Я ее отпустила.
Поскакала я к Лизавете Петровне. Она в кровати полумертвая. Рассказать ей об Аннушке значило совсем ее ухлопать. Целый день просидела я у нее, читала ей, писала под ее диктовку. Точно меня кто ударил обухом по голове: ничего я не понимала. Глубокое уныние и усталость напали на меня.
Неужели так все и пойдет? Я не ропщу на страдания, связанные с неудачами. Но к чему же могут привести бесплодные страдания? Если я сама суну палец между двумя половинками двери и буду давить его, буду терпеть до последних пределов — какой же смысл в этом, какая идея, какое добро? Ведь есть же в жизни множество всякого дела, где ничто не пропадает. Все идет на прямую пользу тех самых людей, которых мы с Лизаветой Петровной любим и хотим любить вечно. Какое же это дело? Я не знаю; но оно не наше. А если не наше, то где его искать?
Далеко искать не нужно: учить девочек, как делает Елена Семеновна, перевязывать раны, помогать добрым словом и деньгами там, где нужно.
Все это под рукой, все это так просто и возможно.
Возможно, а все-таки не знаешь, как взяться.
Елена Семеновна учит детей. У нее это порядочно идет, оттого что она сама чему-нибудь порядочно училась. А я? Я на каждом шагу спотыкаюсь, чувствую, что не в состоянии выучить и простой грамоте.
Помогать добрым словом и деньгами! Я и помогаю, но кто мне поручится за то, что я делаю все с прямой пользой? Какой у меня оселок, чтобы судить, что больше достойно помощи, что меньше? Есть ли у меня хоть одна твердая идея о том: где источник зла, бедности, страданий и всякого мрака! Как добыть радикальное лекарство?
Боже ты мой! опять я одна-одинехонька, на перепуг.
Опять нужно толкаться куда-нибудь в другую дверь!
7 июня 186*
Днем. — Пятница
Меня начали осаждать бедные. Я бы не хотела, чтобы они являлись ко мне… Не знаешь, как разорваться и кому как помогать. Все мои туалетные деньги ушли.
Новый и окончательный удар!
Ариша говорить мне вчера, когда я ложилась спать:
— Марья Михайловна, вы на меня не извольте сердиться за то, что я вам доложу-с.
Сердце у меня сжалось. Ариша — это мой фатум. Она является всегда, как голос рока…
— Я, хоть и простая девушка, Марья Михайловна, указывать вам не смею, а воля ваша, мне за вас обидно-с.
— Что такое?
— Как же, матушка! Теперь все эти бедные, что сюда шатаются, вы им изволите верить, a ведь они над вами же смеются.
— Как смеются?
— Ей богу-с. Я бы не посмела вам врать… Вот та старушка, что по понедельникам приходит…
— Ну, что же старушка? — перебила я Аришу. — Она несчастная женщина, я у нее была на квартире.
— Какая же она несчастная! Она отсюда прямо в питейное заведение заходмт. Ей этого мало, что вы ей изволите благодетельствовать: есть у нея дочь-девушка… из таких, знаете, из гуляющих. Так она с нее каждую неделю оброк обирает. А то, говорить, вида тебе не дам. Старуха-то чиновница. Ну, и дочь-то пока при ней значится.
— Да ведь она живет на своей квартире.
— Это она угол нанимает. Вот когда кто-нибудь из благодетельниц посетит, кой-когда и ночует, а то все к дочери.
— Да ты-то как это знаешь? — спросила я пристыженным голосом у Ариши.
— Семен сказывал. Он с вами ездил туда. Там ему другие жильцы все это доподлинно выставили… Вы меня, Христа ради, простите, Марья Михайловна, что я по любви моей к вам осмелилась… Да ведь не одна эта старушка… Известное дело, есть неимущий народ, за то уж и мошенников-то не оберешься!..
Вот что я выслушала! Сомневаться тут нельзя. Люди всегда знают правду; а нас, бар, всегда проводить, должно быть в наказание за то, что мы и добра-то не умеем делать так, как следует.
Да ведь это пропасть какая-то, бездна!
Вовремя я спохватилась! Надо было подумать об этом с первого же дня и оградить себя от такого презренного плутовства.
Оградить! Но чем? Разве у нас есть какие-нибудь сведения, дельная опытность, практическая сноровка? Ничего у нас нет.
Стало быть, и Лизавету Петровну обманывают на каждом шагу. У нее больше любви к человеку, чем во мне; но она еще доверчивее и рассеяннее. Она всегда блуждает там, наверху, и не может видеть, как всякая потаскушка, всякая салопница обводит ее грубой ложью, издевается над нею про себя, как над вздорной, полусумасшедшей барыней.
Да, барыни мы, барыни, и больше ничего! Что бы мы ни делали, куда бы мы ни стремились, — каждый наш шаг, всякое наше слово и дело поражены беспомощностью и неумением.
Что я теперь стану делать с Лизаветой Петровной? Люблю я ее, мою милую, горячо; но ничего я от нее больше не жду. Не может она дать мне силы… Не может она и сама идти по прямому и твердому пути.
Но она все-таки счастливее меня. Она верит в свою силу; а я теперь — сомнение и апатия.
10 июня 186*
Ночью. — Понедельник
Приходит Степа и застает меня в спальне, на кушетке, деревянную, тоскливую, совсем убитую…
Он ведь никогда сам не спросил: почему я в том или другом настроении духа. Он считает это, вероятно, "вторжением в частную жизнь", как он изволит выражаться.
Спрашивает меня:
— Здорова ты, Маша?
— Здорова, — говорю.
— Устала?
— Нет, не устала.
Чем больше он деликатничал, тем больше разгоралось во мне желание излиться перед ним…
Он бы меня долго продержал со своими "гражданскими правами". Но я, разумеется, не вытерпела.
— Степа, — говорю я ему: — этак жить нельзя! Выслушай ты меня, Бога ради!
Когда я ему это сказала, он тотчас же подсел ко мне и сделался преласковый. У него ведь все по пунктикам: "нуждаешься мол в моем сочувствии — на тебе его; а пока не скажешь, я не имею права трогать тебя".