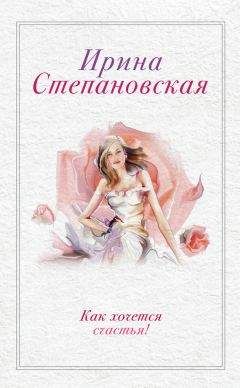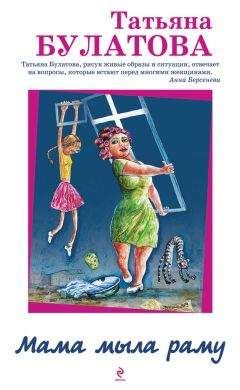Александр Куприн - Повести и рассказы
– Все вы скучаете по царю, по кнуту, по рабству. И даже вы, свободный писатель. Нет, если придет белая сволочь, я влезу на пожарную колонну и буду бичевать оттуда опричников и золотопогонников словами Иеремии[186]. Я не раб, я честный коммунист, я горжусь этим званием.
– Убьют, Яша.
– Пустяки. В наши великие дни только негодяи боятся смерти.
– Вспомните о своих братьях евреях. Вы накличете на них грозу.
– Плевать. Нет ни еврейского, ни русского народа. Вредный вздор народ. Есть человечество, есть мировое братство, объединенное прекрасным коммунистическим равноправием. И больше ничего! Я пойду на базар, заберусь на крышу, на самый высокий воз, и с него я скажу потрясающие гневные слова!
– До свидания, Яша. Мне налево, – сказал я.
– До свидания, – ответил он мягко. – Простите, что я так разволновался.
Мы расстались. Больше я его никогда не видел. Судьба подслушала его.
Я спал мало в эту ночь, но увидел прекрасный незабвенный сон.
На газетном листе я летал над Ялтой. Я управлял им совсем так, как управляют аэропланом. Я подлетал к вершине Ай-Петри[187]. Подо мной лежал Крым, как выпуклая географическая карта. Но, огибая Ай-Петри, я коснулся об утес краем моего аппарата и ринулся вместе с ним вниз.
Проснулся. Сердце стучало, за окном серо синел рассвет.
V
Тяжелая артиллерия
Встал я, по обыкновению, часов около семи, на рассвете, обещавшем погожий солнечный день, и, пока домашние спали, потихоньку налаживал самовар.
Этому мирному искусству – не в похвалу будь мне сказано – я обучился всего год назад, однако скоро постиг, что в нем есть своя тихая, уютная прелесть.
И вот только что разгорелась у меня в самоваре лучина и я уже готовился наставить коленчатую трубу, как над домом ахнул круглый, плотный пушечный выстрел, от которого задребезжали стекла в окнах и загрохотала по полу уроненная мною труба. Это было посерьезнее недавней, отдаленной канонады.
Я снова наладил трубу, но едва лишь занялись и покраснели угли, как грянул второй выстрел. Так и продолжалась пальба весь день до вечера, с промежутками минут от пяти до пятнадцати.
Конечно, после первого же выстрела весь дом проснулся. Но не было страха, ни тревоги, ни суеты. Стоял чудесный, ясный день, такой теплый, что если бы не томный запах осыпающейся листвы, то можно было бы вообразить, что сейчас на дворе конец мая.
Ах, как передать это сладостное ощущение опьяняющей надежды, этот радостный молодой озноб, этот волнующий позыв к движению, эту глубину дыхания, это внутреннее нетерпение рук и ног.
Мы скоро узнали, что стреляет из Гатчины тяжелая артиллерия красных (слухи не соврали, ее все-таки привезли из Петербурга). Говорили, что установлены были орудия частью около обелиска, воздвигнутого Павлом I и названного им «коннетаблем», частью на прежнем авиационном поле. Они бухали без передышки. Но белые молчали.
Кажется, достаточно было поводов для домашней тревоги. Но – диковинная вещь уверенность или вера, или жажда веры! Это чувство идет не от уст к устам, не по линии, даже не по плоскости. Оно передается в трех измерениях, а почем знать, может быть, и в четырех. Мне никогда не забыть этих часов беспечного доверия в жизни и ощущения на себе спокойной благосклонности синего неба.
Или мы все уже так отчаянно загрязли в поганом погребе, где нет света и ползают мокрицы, что обрадовались допьяна тоненькому золотому лучику, просочившемуся сквозь муравьиную скважину?
Я не знал, куда девать время, так нестерпимо медленно тянувшееся. Я придумал сам для себя, что очень теперь необходимо вырывать из грядок оставшуюся морковь. Это было весело. Корни разрослись и крепко сидели в сухой земле. Уцепишься пальцами за головку и тянешь: нет сил. А как бахнет близкий пушечный выстрел и звякнут стекла, то поневоле крякнешь и мигом вытащишь из гряды крупную толстую красную морковину. Точно под музыку.
Не сиделось десятилетней дочери. Она, зараженная невольно общим сжатым волнением и возбужденная красивыми звуками пушек, с упоением помогала мне, бегая с игрушечным ведром из огорода на чердак и обратно. Время от времени она попадала в руки матери, и та, поймав ее за платье, тащила в дом, где уже успела забаррикадировать окна тюфяками, коврами и подушками. Но девочка, при первой возможности, улизывала опять ко мне. И так они играли до самого вечера.
Куда била Красная армия – я не мог сообразить: я не слышал ни полета снарядов, ни их разрывов. Только на другой день мне сказали, что она обстреливала не Варшавскую, а Балтийскую дорогу. Вкось от меня.
Белые молчали, потому что не хотели обнаружить себя. Их разведка выяснила, что путь на Гатчину заслонен слабо. И надо еще сказать, что Северо-Западная армия предпочитала опасные ночные операции дневным. Она выжидала сумерек.
И вот незаметно погустел воздух, потемнело небо. На западе протянулась узенькая семговая полоска зари.
Глаз перестал различать цвет моркови от цвета земли.
Усталые пушки замолкли.
Наступила грустная, тревожная тишина.
Мы сидели в столовой при свете стеаринового огарка – спать было еще рано – и рассматривали от нечего делать рисунки в словаре Брокгауза и Ефрона.
Дочка первая увидела в черном окне зарево пожара. Мы раздвинули занавески и угадали без ошибки, что горит здешний совдеп, большое, старое, прекрасное здание с колоннами, над которым много лет раньше развевался штандарт[188] и где жили из года в год потомственно командиры синих кирасир[189].
Дом горел очень ярко. Огненно-золотыми тающими хлопьями летали вокруг горящие бумажки.
Мы поняли, что комиссары и коммунисты и все красные покинули Гатчину.
Девочка расплакалась: не выдержали нервы, взбудораженные необычайным днем и никогда не виданным жутким зрелищем ночного пожара. Она все уверяла нас, что сгорит весь дом, и вся Гатчина, и мы с нею.
Насилу ее уложили спать, и долго еще она во сне горько всхлипывала, точно жаловалась невидимому для нас кому-то очень взрослому.
VI
«Дома ль маменька твоя»
Я курил махорку и перелистывал в Брокгаузе прекрасные политипажи[190]: костюмы ушедших сто-и тысячелетий. Жена чинила домашнее тряпье. Мы оба – я знал – молча предчувствовали, что вот-вот в нашей жизни близится крупный перелом.
Души были ясны и покорны. Мы никогда в эти тяжелые годы и мертвые дни не пытались обогнать или пересилить судьбу.
Доходили до нас слухи о возможности бежать из России различными путями. Были и счастливые примеры, и соблазны. Хватило бы и денег. Но сам не понимаю, что: обостренная ли любовь и жалость к родине, наша ли общая ненависть к массовой толкотне и страх перед нею, или усталость, или темная вера в фатум – сделали нас послушными течению случайностей; мы решили не делать попыток к бегству.
Иногда, правда шутя, мы с маленькой путешествовали указательным пальцем по географической карте.
Евсевия еще помнила, смутно, бирюзовое побережье Ниццы и – гораздо отчетливее – вкусные меренги[191] из кондитерской Фозера[192] в Гельсингфорсе[193]. Я же рассказывал ей – о Дании по Андерсену, об Англии по Диккенсу, о Франции по Дюма-отцу.
В пылком воображении мы посетили все эти страны неоднократно. Судьбе было угодно показать нам их в яви, почти не требуя от нас никаких усилий для этого. Утверждаю, если человек бесцельно, беззлобно и беззаботно мечтает о невинных пустяках, то они непременно сбудутся, хотя бы и в очень уменьшенных размерах…
Кроме того, мы, голодные, босые, голые, сердечно жалели эмигрантов. «Безумцы, – думали мы, – на кой прах нужны вы в теперешнее время за границей, не имея ни малейшей духовной опоры в своей родине? Куда вас, дурачков, занесли страх и мнительность?»
И никогда им не завидовали. Представляли их себе вроде гордых нищих, запоздало плачущих по ночам о далеком, милом, невозвратном отчем доме и грызущих пальцы.
Вдруг по низкой крыше нашего одноэтажного домика прокатился и запрыгал железный горох… Застрекотал вдали пулемет. Ясно было: стреляют в самой Гатчине или на ближних окраинах. Мы переглянулись. Одно и то же воспоминание мелькнуло у нас.
В мае 1914 года, в Гатчине на Варшавском пути, чья-то злая рука подожгла огромный поезд, груженный артиллерийскими снарядами. Всего взорвалось последовательно тринадцать вагонов. Но так как снаряды рвались не сразу вагонами, а часто-часто, один за другим, то эта музыка продолжалась с трех часов утра до семи. До нас долетала шрапнельная начинка и развороченные шрапнелью стаканы, уже на «излете». Опасности от них большой не было. Нужно было только не высовываться из дома.
На наших глазах один стакан (а в нем фунтов восемь, десять) пробил насквозь железный тамбур над сенями, другой сшиб трубу с прачечной, третий снес с замечательной ловкостью верхушку старой березы. Шрапнельная дробь все время, как град, стучала по крыше. Мы потом насобирали полное лукошко этих веских свинцовых шариков величиною с вишню.