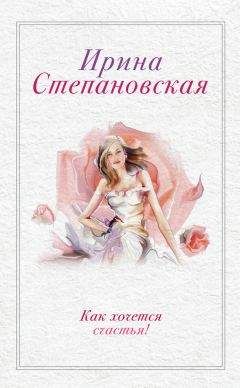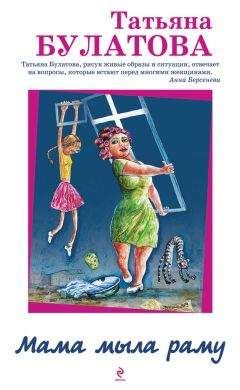Александр Куприн - Повести и рассказы
Как она смотрела за детьми, видно из того, что однажды вся ее детвора объелась какой-то ядовитой гадостью. Большинство захворало, одиннадцать детей умерло. Трупы было приказано доставить ночью в мертвецкую при госпитале, залить известью и вынести за город. Об этом рассказывал Федор, служивший раньше у меня дворником, философ, пьяница, безбожник, кривой на один глаз и мастер на все руки. Особенно влекло его к профессиям отчаянным. Он работал на собачьей свалке, ловя и убивая бродячих собак, служил в ассенизационном обозе, а потом поступил сторожем в мертвецкую; в промежутках же брался за всякую работу. Он-то и рассказывал мне о том, как приходили к нему ночью матери отравленных детишек и как он, Федор, выдавал опознавшим трупы этих детей, беря по сто рублей за голову. Цена небольшая, но денатурат[180] был сравнительно не дорог.
Как-то раз к нам во двор забежала девочка из этого приюта, лет двенадцати, но вовсе карлица, в старушечьем белом платочке и с лицом печальной, больной старушки. Она рылась в помойке.
Нам удалось побороть ее одичалость, кое-как помыть ей руки и рожицу и покормить тем, что было дома. Звали ее Зина. У нас она немножко облюднела. Пришла еще раз и еще, а потом даже привела с собою шершавого веснушчатого мальчугана, осиплого и дикого, как волчонок.
Но однажды едва она вошла в калитку, как за нею следом бешеной фурией ворвалась надзирательница. Ее страшные глаза «метали молнии». Она схватила девочку-старушку за руку и поволокла ее с той деспотической небрежностью, с какой злые дети таскают своих несчастных изуродованных кукол. И она при этом кричала на нас в таком яростном темпе, что мы не могли бы, если бы даже и хотели, вставить ни одного слова:
– Буржуи! Кровопийцы! Сволочь! Заманивают малолетних с гнусными целями! Когда вас перестреляют, паршивых сукиных детей!
И все в том же мажорном тоне.
Потом прошло с полмесяца. Как-то утром я стоял у забора. Вижу, надзирательница толкает по мостовой большую тачку, а на ней небольшой гробик, наскоро сколоченный из шелевок[181]. Я понял, что тащила она детский трупик на кладбище, чтобы свалить в общую яму, без молитвы и церковного напутствия.
Но как раз перед моими воротами колесо тачки неудобно наскочило на камень.
От толчка живые швы гроба разошлись и из него выглянуло наружу белое платьице и тоненькая желтая ручка. Надзирательница беспомощно оглядывалась по сторонам.
Я крикнул ей:
– Погодите, сейчас помогу.
Захватил в доме гвоздей, молоток и кое-как, неумело, криво, но прочно, заколотил гроб. Вбивая последний гвоздь, спросил:
– Это не Зина?
Она ответила, точно злая сучка брехнула:
– Нет, другая стерва. Та давно подохла.
– А эту как звать?
– А черт ее знает!
И влегла в тачку всем своим испепеленным телом.
Я только подумал про себя: «Успокой, Господи, душу неизвестного младенца. Имя его Ты Сам знаешь».
Другой женщине я бы непременно помог довезти гроб, хотя бы до шоссе…
Много еще было невеселого. Ведь каждый день нес с собою гадости. Но теперь во мне произошел какой-то легкий и бодрый поворот.
Пушки бухали все ближе, а с их приближением сникла с души вялая расслабляющая тоска, бессильное негодование, вечный зелено-желтый противный рабий страх. Точно вот кто-то сказал мне: «Довольно. Все эти три года были дурным сном, жестоким испытанием, фантазией сумасшедшего. Возвращайся же к настоящей жизни. Она так же прекрасна, как и раньше, когда ты распевал ей благодарную хвалу».
Сидел я часто на чердаке, на корточках, счищал сухую грязь с картофелин и размышлял: если учесть налипшую землю да еще то, что клубни подсохнут, то 36-ти пудов не выйдет. А все-таки по три фунта в день наберется, по фунту на персону. Это громадный запас. Только уговор умеренно делать широкие жесты.
И в то же время я пел диким радостным голосом чью-то нелепую песенку на собственный идиотский напев:
Тра-ля-ля, как радостно,
На свете жить так сладостно;
И солнышко блестит живей,
Живей и веселей…
IV
Яша
Когда вошел славный Талабский полк[182] в Гатчину – я точно не помню; знаю только, что в ночь на 15, 16 или 17 октября. Я еще подумал тогда, что дни второй половины октября часто были роковыми для России.
Накануне этого дня пушечные выстрелы с юга замолкли.
Город был в напряженном, тревожном, но бодром настроении. Все ждали чего-то необычайного и бросили всякие занятия.
Перед вечером – еще не смеркалось – я наклал в большую корзину корнеплодов, спустив их пышную ботву снаружи: вышел внушительный букет, который предназначался в презент моему старому приятелю-еврею за то, что тот изредка покупал мне в Петербурге спирт.
Да, надо сознаться, все мы пили в ту пору контрабандой, хотя запретное винокурение и грозило страшными карами, до расстрела включительно. Да и кто бы решился укорить нас?
Великий поэт и мудрец Соломон недаром приводит в своих притчах наставление царю Лемуилу, преподанное ему его матерью:
«Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям сикеру»[183].
«Дайте сикеру погибающему и вино – огорченному душою»[184].
«Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании»[185].
Когда я пришел к нему на Николаевскую, все домашние сидели за чайным столом. Хозяина уже третий день не было дома, он завертелся по делам в Питере. Но его стул на привычном патриаршем месте, по старинному обычаю, оставался во все время его отсутствия незанятым: на него никому не позволяли садиться. (Впрочем, и в крепких старинных русских семьях кое-где хранится этот хороший завет.)
Был там какой-то дальний родственник, приехавший две недели назад из глухой провинции – седой, худой, панический человек. Он все хватался за голову, утомляя всех своими жалобами и страхами, ныл, как зубная боль, распространяя вокруг себя кислоту и уныние.
Был еще немного знакомый мне мальчик, Яша Файнштейн. Он носил мне тетрадки своих стихов на просмотр и оценку. Муза его была жалка, совсем безграмотна, беспомощна, ровно ничего не обещала в будущем, питалась гражданскими мотивами. Но в самом мальчике была внутренняя деликатность и какая-то сердечная порывистость.
Он блуждал по комнате, низко склонив голову и глубоко засунув руки в брючные карманы. Разговор, по-видимому, иссяк еще до меня и теперь не клеился.
Через полчаса притащился очень усталый хозяин… Увидев мою свадебную корзину, он слегка улыбнулся, кивнул мне головою и сказал:
– Только двести (он говорил о количестве граммов). Вам следует сдачи.
Потом он стал говорить о Петербурге.
Там беспокойно и жутко. По улицам ходят усиленные патрули красноармейцев, носятся сломя головы советские автомобили.
Обыски и аресты увеличились вдвое. Говорят шепотом о близости белых частей…
Поезд, на котором он возвращался домой, доехал только до Ижоры. Станционное начальство велело всем пассажирам очистить его. Из Петербурга пришла телеграмма о совершенном прекращении железнодорожного движения и о возвращении этого поезда назад – в Петербург.
Пассажиры пошли в Гатчину пешком, узкими малоизвестными дорогами. С ними шел мой добрый партнер в преферанс и тезка – А. И. Лопатин, но, по своему всегдашнему духу противоречия, шел, не держась кучки, какими-то своими тропинками. Вдруг идущие услыхали его отчаянный пронзительный вопль, на довольно далеком расстоянии. Потом в другой раз, в третий. Кое-кто побежал на голос. Но Лопатина не могли сыскать. Да и невозможно было. Путь преграждала густая вонючая трясина.
Очевидно, бедный Лопатин попал в нее и его засосало.
Что-то еще незначительное вспоминал хозяин из новых столичных впечатлений, и вдруг… молчавший доселе Яша взвился на дыбы, точно его ткнули шилом.
– Стыдно! Позор! Позор! – закричал он визгливо и взмахнул вверх руками, точно собирался лететь. – Вы! Еврей! Вы радуетесь приходу белых! Разве вам изменила память? Разве вы забыли погромы, забыли ваших замученных отцов и братьев, ваших изнасилованных сестер, жен и дочерей, поруганные могилы предков?
И пошел, и пошел кричать, потрясая кулаками. В нем было что-то эпилептическое.
С трудом его удалось успокоить. Это с особенным тактом сделала толстая, сердечная, добродушная хозяйка.
Вышли мы вместе с Яшей. Он провожал меня. На полпути он завел опять коммунистический валик. Я не возражал.
– Все вы скучаете по царю, по кнуту, по рабству. И даже вы, свободный писатель. Нет, если придет белая сволочь, я влезу на пожарную колонну и буду бичевать оттуда опричников и золотопогонников словами Иеремии[186]. Я не раб, я честный коммунист, я горжусь этим званием.
– Убьют, Яша.
– Пустяки. В наши великие дни только негодяи боятся смерти.
– Вспомните о своих братьях евреях. Вы накличете на них грозу.