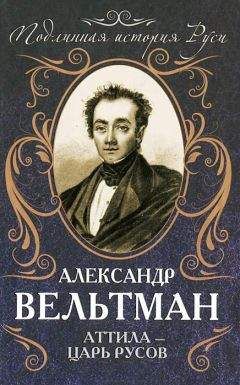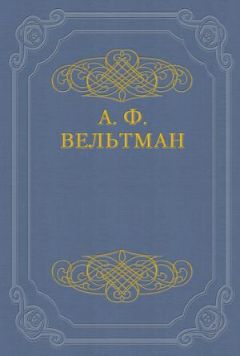Александр Вельтман - Повести и рассказы
Боясь дедушки-домового, все от старого до малого свято исполняли его последнее слово. Им в семье хранился мир: жили к старшим послушно, с равными дружно, с младшими строго и милостиво. Ладно и весело на сердце. А чуть что не так, дедушка стукнет, все смолкнут, оглянутся – дедушка, дескать, стучит недаром. Стерегись.
Бывало, деревянный дом, а стоит-стоит – и веку нет; стены напитаются человеческим духом, окаменеют; вся крыша прорастет мохом – гниль не берет.
То были времена, а теперь другие: и теперь есть домовой – да внутри нас; тоже заголосит подчас, да про глухого тетерева.
Вот в чем беда.
До нашествия французов много было еще таких домов, со старинными домовыми, а после того, сколько мне, по крайней мере, известно, только два, по соседству, рядышком.
Старинные дома были как-то не то, что теперешние. Старинные дома были гораздо хуже, и сравнения нет, да в старинных домах были такие теплые углы, такие ловкие, удобные, насиженные места, что сядешь – и не хочется встать. Про печки и говорить нечего: печки были как избушки на курьих ножках, с припечками, с печурками, с лежанками; и на печке, и за печкой, и под печкой – везде житье, а теплынь-теплынь какая! И домовому был приют.
То были времена, а теперь другие. Бывало, все в полночь спит мертвым сном. Не спалось, бывало, только тому, чей день был грешен. Зато он и наберется страху от грозы домового, заклянется от греха: век, говорит, не буду! И теперь тоже говорят: век не буду, да по пословице – «день мой, век мой» – с, наступлением зари нового века принимаются за старые грехи, а пугнуть некому: старинных домовых нет, и внутренний голос осип.
Один из старинных, упомянутых нами домиков, в которых водились еще дедушки-домовые, принадлежал одной старушке.
Это было чудо, не просто старушка, а молодая старушка; зато дедушка-домовой и лелеял ее сон, ходил на цыпочках и, как домовой «Чуровой долины», вместо обычной возни наигрывал на гуслях и распевал любовные песни. Дедушка в самом деле был влюблен в нее, как домовой «Чуровой долины» в княжну Зорю.
И был прав: при неизменчивости душевной красоты и наружная не вянет, по крайней мере в памяти. У старушки неизменны были и ангельская улыбка, и приятный взор. Морщинки как будто еще украшали ее личико; недостаток зубков как будто придавал нежность речам: ведь выпадают, же у детей молочные зубы, и это нисколько их не портит; а добрая старость тоже младенчество.
У старушки был внучек Порфирий. Она так любила его, нежила и берегла, что даже в комнате для предостережения от простуды он ходил в чепчике и грудка его сверх курточки обвязана была большим платком. Так как по старому обычаю молодой человек лет до 20 считался ребенком, то и старушка смотрела на внучка своего, как на дитя, хотя ему было уже около 18 лет. Он в самом деле был премилый ребенок, и, когда летом сидел в мезонине у открытого окна, в чепчике и бабушкином платке, чтоб не пахнул ветерок на грудку, проходящие и проезжающие современные юноши заглядывались на него, воображая, что это сидит в тереме красная девушка. Не хуже красной девушки он потуплял глаза свои от нескромных взоров.
Старинный дом по соседству был как родной брат дому старушки и также с мезонином, которого боковое окно обращалось к соседу; но стекла от времени сделались перламутровыми.
Соседский дом принадлежал старичку, больному, дряхлому, мнительному и капризному и от лет и от бед, которые он перенес в жизни. У него оставалось одно утешение – внучка Сашенька, ребенок-душка, каких мало. При Сашеньке была старая няня, а при самом старичке старый Борис, дряхлее своего господина, который по ночам, во время бессонницы, заговаривался уже с домовым.
В продолжение дня старик сидел в глубоких креслах, обложенный подушками, тяжело дышал от удушья и, посматривая на внучку, которая играла подле него куколками из тряпочек, все бормотал что-то про себя. Иногда и разговорится: няня свернет Сашеньке новую куколку, внучка подбежит к дедушке и похвастается своей куколкой: «Дедушка, куколка!»
– А! куколка? – скажет старик. – Хорошо… вот постой… я куплю тебе настоящую куклу…
– Да только все обещает дедушка, – отвечает вместо Сашеньки няня.
– А вот… будет хорошая погода… так мы и поедем в город… – скажет старик, посматривая в окно сквозь тусклые стекла летних и зимних рам. – Видишь, какая пасмурная погода…
– Бог с вами, какая пасмурная, – скажет няня, – если уж эта пасмурная, так светлой-то нам и не дождаться.
– Сырость в воздухе, – проговорит старик, – это я чувствую по себе… так и душит…
Во время ночей старик мается на постели и также все бормочет:
– Совсем сна нет… вить уж скоро, чай, заутреня? Заутрени скоро!.. О-хо-хо!
– Ого, – ответит- домовой, повернувшись за печкой с боку на бок.
– Смотри пожалуй… где это стучат? Чу, стучит… а?
– Ага! – отзовется домовой.
Старик начнет прислушиваться, потом кликнет сонного Бориса и спросит:
– Где это стучит?
– Нигде не стучит.
– Что-о?
– Нигде не стучит, – крикнет Борис на ухо.
– Что ж эхо… в голове, стало быть, стучит?..
И старик снова начинает прислушиваться, где стучит: в голове или вне головы. А Борис, уходя, бормочет себе под нос: стучит! Черт, домовой стучит, прости господи! Ляжет, а домовой и начнет его душить за ложь и брань.
IIТак проходили годы. Сашенька подрастала, старик дряхлел и час от часу становился мнительнее и боязливее за внучку. Соблазн ему представился во всем ужасе. Припоминая свою храбрую молодость, он знал, что девушка в 15 лет как кудель: стоит только бросить огненный взор – и загорелась. Не доверяя и глазу старой няни, он без себя не стал отпускать Сашеньку даже в церковь. Напрасно няня представляла ему, что это великий грех, – Когда ж вы соберетесь-то сами? – говорила она ему.
– А вот… погода будет получше… поедет в соборы… в соборы поедем… покуда дома помолится… все равно;..
– Нет, не все равно! грех!
– Ну, ну, ну, ты дура… По-вашему, не грех женихов выглядывать!..
– Что ж такое? А по-вашему как? По-нашему, дай бы бог, чтобы нашелся женишок Александре Васильевне, – отвечала няня с сердцем.
Старик пришел в ужас.
– Молчи!., дура!.. Я прогоню тебя! – вскричал он. – Видишь, что говорит!., научит еще ребенка под окном сидеть, напоказ!., окон на улицу у меня ни под каким видом не отворять!., слышишь? а не то заколочу! Я тебя заколочу и окна заколочу!
– Слава тебе господи, дослужилась до доброго слова! – проговорила няня, залившись слезами.
Тревожное опасение за внучку день ото дня увеличивалось.
Только и думы у старика: как бы скрыть свое сокровище от обаяния какого-нибудь чародея.
«Где-ж усмотришь за девочкой, – думал он, – выглянет на улицу – и беда! Вон, эво, так и шныряют проклятые ястребы – нет ли в окне добычи».
Подозрительный глаз старика так и преследовал всех молодых людей, проходящих по улице. Как на зло ему, большая часть останавливалась, чтоб посмотреть на два старинных домика. В самом деле, после 12-го года они одни красовались посреди пожарища и казались такими завидными для всех погоревших, что, проходя мимо, каждый останавливался и восклицал: «Смотри пожалуй, кругом все обгорело, а эти чертовы избушки стоят себе как будто бы ни в чем не бывало!.. Ей-богу, на удивление!»
Но вскоре все соседство как будто разбогатело после пожара – вместо деревянных домов выстроило себе каменные палаты, и снова все прохожие, вместо умилительного взгляда на почтенную древность, восклицали: «Смотри пожалуй, две чертовы избушки втесались между каменных палат! Ей-богу, на удивление!»
Эти остановки проходящих и любопытство взглянуть на обросшие зеленым мохом домики мнительный старик понимал по-своему.
– Ох, эти мне, – бормотал он про себя, – глазом не видят, так чутьем слышат.
Долго придумывая, как бы охранить внучку от соблазна, старик наконец ухитрился.
– Постой, погоди, молодцы, – сказал он, – я вас проведу мимо двора щей хлебать!..
И тотчас же, несмотря ни на горе покорной внучки, ни на слезы и ропот ее няни, приказал обстричь под гребешок прекрасные волосы Сашеньки. Потом велел Борису вынуть из сундука все старое платье и принести к себе.
Притащив груду рухляди, Борис, кряхтя, сложил ее перед стариком и, казалось, начал приподнимать по очереди слежавшиеся дружно тени нескольких поколений огромного некогда семейства. Память о далеком прошедшем ожила перед двумя стариками, но барин думал о своем.
– Тут должна быть курточка Кононушки! – сказал он.
– Где ж тут курточка? – отвечал Борис, перебирая и рассматривая мужские и женские платья прошедшего столетия. – Это не курточка!
– Покажи-ко: какая ж это курточка, это камзол дедушкин…
– Эка, – проговорил Борис со вздохом, – носить бы да еще носить!., бархат-то! а?.. Это робронт!.. Кажись, покойницы матушки… Дай бог ей царство небесное.