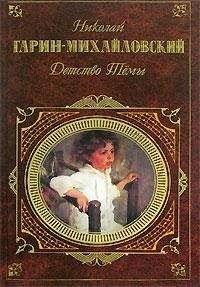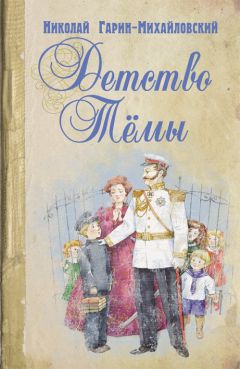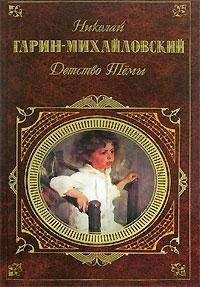Николай Гарин-Михайловский - Том 1. Детство Тёмы. Гимназисты
— Рисуется немного… но талантливый, подлец, — соглашался Рыльский.
Многочисленная партия Карташева была полной противоположностью партии Корнева. Все это были люди, которые ничего не читали, ничем не интересовались, ни о чем не помышляли, кроме ближайших интересов дня. Они ходили в гимназию, лениво учили уроки и в свободное от занятий время скучали и томились.
Корнев с компанией язвили их, вышучивали, донимали и осмеивали все то, что в их глазах казалось неприкосновенным.
Карташев был представителем своей партии. Случилось это как-то само собой: Карташев усердно отстаивал тех, кто попадал на острые зубы противной партии; он обладал даром слова, находчивостью в спорах; он, наконец, был добр и не мог выносить бессердечия партии Корнева ко всем тем, кто или стоял ниже их в умственном отношении, или не разделял их взглядов.
Начнет, бывало, Корнев без церемонии ругать кого-нибудь, а Карташев чувствует такое унижение, как будто его самого ругают. Выругается Корнев и примется за чтенье.
— Я не понимаю этого удовольствия, — заговорит Карташев скрепя сердце, — говорить человеку в глаза «идиот».
— А я не понимаю удовольствия с идиотами компанию водить, — ответит небрежно Корнев и примется за свои ногти, продолжая читать.
— Если б даже и идиот он был, что ж, он поумнеет оттого, что его назовут идиотом?
Корнев молчит, погрузившись в чтение.
— Если не поумнеет, то отстанет, — бросит за него Рыльский.
— Или в морду даст? — пустит со своего места Семенов.
— Испугал!
— А вот назови меня…
Рыльский весело смеялся.
— Ну, а если два человека назовут тебя идиотом. Тоже в морду дашь?
— Дам, конечно.
— Ну, а три?..
— Хоть десять.
Корнев отрывается от чтения и говорит мягким, ласковым голосом:
— Если бы ты встретил неприятеля, мой друг, ты что бы сделал? — Он делает свирепое лицо. — Приколол бы, ваше превосходительство. — А если ты десять неприятелей встретил? — Приколол бы! — Мой друг, разве ты можешь десять человек приколоть? Подумай хорошенько. — Так точно, не могу.
Корнев меняет тон и говорит наставительно:
— Солдат, и тот понял.
— Так ведь то солдат, — поясняет Рыльский, — а он сын полковника… Вот, погоди, подрастет он, один всю Европу приколет.
— Ах, как остроумно! — говорит Семенов.
В числе карташевской партии, между прочим, были Вервицкий и Берендя. Они сидели на одной скамейке и дружили, хотя по виду дружба их была очень оригинальна: друзья постоянно ссорились.
Вервицкий был широкоплечий блондин, с голубыми глазами, с круглым лицом, с грубым, сиплым голосом, сутуловатый, с широкими плечами.
Берендя, или Диоген, как называл его язвительно Вервицкий, худой, высокий, ходил, подгибая коленки, имел длинную, всегда вперед вытянутую шею, какое-то не то удивленное, не то довольное лицо, носил длинные волосы, которые то и дело оправлял рукой, имел желто-карие лучистые глаза и говорил так, что трудно было что-нибудь разобрать.
Главным недостатком Беренди Вервицкий считал его глупость. Он этим и донимал своего друга.
Надо отдать справедливость, Вервицкий умел подчеркнуть глупость друга. Когда он, бывало, вытянув шею, подгибая коленки, шел, стараясь изобразить Берендю, класс умирал от смеха. В мастерской передаче Вервицкого так ясно было, что Берендя действительно глуп. А еще яснее это было, когда Берендя вступал в спор.
Рот только откроет Берендя, а уж Вервицкий упрется на локоть, уставится в друга и с наслаждением слушает. Берендя с какой-то особой манерой откинется, вытянет длинные ноги и, устремив в пространство свои лучистые глаза, начнет, поматывая головой, длинную речь. Слушает Вервицкий, слушает и начнет сам поматывать головой, потом скосит немного глаза, на манер Беренди, что-то зашепчет себе под нос и кончит тем, что и сам расхохочется, и в публике вызовет смех.
Сбитый с позиции, Берендя обрывался и бормотал:
— Мне кажется странно, право, такое отношение…
Остальное исчезало в какой-то совершенно непонятной воркотне и в поматывании головой.
— Дурак ты, дурак, — говорил в ответ Вервицкий, с искренним сокрушением качая головой. — И всегда будешь дурак, хоть сто лет живи… Вот так и будешь все мотать головой, на кладбище повезут, и то мотать будешь, а о чем — так и не разберет никто.
— Ну, что ж, это очень грустно, — говорил Берендя.
— А ты думаешь, весело? — перебивал своим сиплым голосом Вервицкий.
— Очень грустно… очень грустно… — твердил Берендя.
— Тьфу! Противно слушать… не только слушать, смотреть.
— Очень грустно… очень грустно…
— И думает, что очень умную вещь говорит.
Такие стычки не мешали, однако, друзьям вместе готовить трудные уроки, ходить друг к другу в гости, поверять свои тайны и понимать друг в друге то сокровенное, что ускользало от наблюдения толпы, но что было в них и искало сочувствия.
Бывало, излившись друг перед другом, друзья ложились вместе на одну кровать, в загородной квартире Беренди, в доме мещанки, у которой Берендя снимал квартиру со столом и самоваром за двенадцать рублей в месяц. Берендя то начинал острить на свой счет, и тогда друзья хохотали до слез. А то вставал, вынимал скрипку и, смотря своими лучистыми глазами в зеленые обои своей комнаты, начинал играть. Чувствительный Вервицкий присаживался к окну, подпирал подбородок рукой и задумчиво смотрел в окно.
Время летело, скучный урок лежал нетронутым, наступали сумерки, темная ночь охватывала небо и землю, охватывала душу сладкой истомой, и было так хорошо, так сладко и так жаль чего-то.
А на другой день рассердится, бывало, Вервицкий и бесцеремонно начнет перед всем классом черпать доводы о глупости Беренди из тех же сокровенных сообщений, которые делал ему приятель накануне. Вспыхнет, бывало, покраснеет Берендя и забормочет, заикаясь, что-то себе под нос.
А Вервицкого еще больше подмывает:
— Ба-ба-ба! Ба-ба-ба! Пошел пилить! Ты говори прямо: я наврал? ты не говорил?
И как ни отделывался Берендя, а в конце концов, поматывая головой и пощипывая свою пробивающуюся бородку, едва внятно лепетал:
— Ну, говорил…
— А зачем же ты сразу забормотал так, как будто я сам все выдумал? Вот это и подлость у тебя, что ты все: туда-сюда… туда-сюда… как змея головой, когда уж ей некуда деваться…
И Вервицкий впивался в друга, а друг, под неотразимыми доводами, только молчал, продолжая поматывать головой.
— Что?! Замолчал!!
Кличку Диогена Берендя получил при следующих обстоятельствах.
— Мы изучаем Диогена, — однажды философствовал он, — и говорим, что он мудрец. Но если я полезу в бочку, буду со свечой искать человека… меня, по крайней мере, посадят в сумасшедший дом.
— И посадят когда-нибудь, — уверенно ответил Вервицкий. — Ты, знаешь, напоминаешь мне метафизика из басни. Ты хочешь непременно своим умом до всего дойти, а ума-то и не хватает: и выходит — веревка вервие простое…
— По-позволь…
— Не позволю: надоел и убирайся к черту.
— Как угодно… я только хотел сказать, что ту-ту-тут неладно… кто-нибудь из нас дурак — или Диоген, или мы…
— Ты дурак.
— Я утешаю себя, что, явись вот перед тобой сейчас Диоген, — тебе ничего не осталось бы, как и его назвать дураком.
— Ну, хорошо. Теперь, когда я захочу тебя выругать дураком, я буду тебе говорить: «Диоген». Хорошо?
— Мне очень приятно будет…
— Ну, и мне приятно будет.
Так и осталась за Берендей кличка Диоген.
Выдавались иногда дни, когда между партиями Корнева и Карташева водворялся род перемирия. Тогда Корнев и Карташев точно сбрасывали свои боевые доспехи и чувствовали какое-то особенное влечение друг к другу.
Один из таких дней подходил к концу. Последний урок был математика. Оставалось четверть часа до звонка. Учитель математики, маленький, с белым лицом и движениями, напоминавшими заведенную куклу, кончил объяснение и сел за стол. Он наклонил голову к журналу, понюхал фамилии всех учеников и произнес голосом, от которого заранее становилось страшно:
— Корнев.
Корнев побледнел и, перекосив, по обыкновению, лицо, пошел к доске.
Математика не давалась ему. В этом отношении перевес был на стороне Карташева, который хотя и не делал ничего, но все-таки держался на спасительной тройке. Корнев пытался доказывать теорему голосом человека, который твердо убежден, что он ничего не докажет, да и не дадут ему доказать.
— Возьмем треугольник ABC и наложим на треугольник DEF так, чтобы точка А упала в точку D.
Учитель слушал и в то же время внимательно, с любопытством бегал глазами по лицам учеников.
Яковлев, первый ученик, молча поднял брови. Рыльский досадливо опустил глаза. Долба с сожалением смотрел в сторону, а один ученик, Славский, не утерпел и даже искренне чмокнул губами.