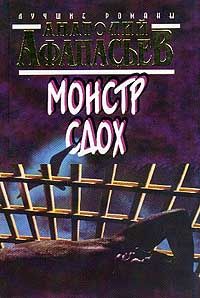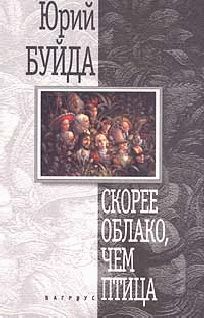Владимир Кораблинов - Прозрение Аполлона
– А ведь это война, – сказал вслух – Докатилась…
И стал думать о войне, о ее нелепости здесь, в самом сердце России. О себе самом, о позиции, какую, хочешь не хочешь, придется избирать, когда вдруг станет, как таблица умножения, бесспорно, что нельзя существовать так, вообще, вне политики, когда сама жизнь в упор спросит: а с кем ты, человек, называющий себя Аполлоном Коринским? «Ну как это – с кем? С нашими, конечно…» И тут некий ехидный и как будто знакомый голосишко подковырнет: «А кто это, пардон, собственно, – ваши? – Голосишко корчился, трясся от смеха. – Так вы, может быть, дорогой профессор, уже и заявленьице товарищу Лесных настрочили?»…
– Молчать, стерва! – гаркнул Аполлон. – Чудом ты тогда, гаденыш, из моих рук ушел… Но гляди… гляди, потаскушка!
– С кем это вы тут, пан профессор? – удивился Стражецкий, заглядывая под навес.
Оказывается, он тоже услышал и проснулся, вышел из каморки послушать, что это гремит вдалеке, – уж не пушки ли?
– Пушки, пан Рышард, пушки, – сказал Аполлон. – И не миновать нам с вами войны… Теперь это ясно, как мармелад.
– Пшепрашам, пане, – вздохнул Стражецкий, – никак понять не можно все эти ваши дела – революция, война, магазины пустые…
– Где уж вам понять наши русские дела, – сказал Аполлон. – Это, пан Рышард, очень большие и серьезные дела.
Война приближалась медленно.
После тревожной ночи снова была тишина, одни шорохи лесные да вздохи ветра и вопли совят.
Пребывание Аполлона в лесу оказалось целительным для Стражецкого, он перестал «зашибать». Конечно, ему намного веселей сделалось от сознания, что он не один, что живой человек рядом, это так; но самое, пожалуй, полезное заключалось в том, что Аполлон ему, как говорится, дыхнуть не давал. Каких он только дел не придумывал! Сперва привели в божеский вид сторожку: отскребли, отмыли – куда же лучше? – так нет, профессору все мало, – давай белить. Была нора звериная, стала игрушка.
Стражецкий порылся в сундучке, вытащил на божий свет недурную лодзинскую олеографию с картины Яна Матейко «Коперник», сапожными гвоздиками прикрепил к стене над изголовьем своего топчана.
– Добже, добже! – похвалил Аполлон. – В хopoшем обществе будете жить, пан Рышард. Это ведь, я так понимаю, не просто картинка, это кусочек родины, верно?
Затем взялись наводить порядок на строительстве: подметали, жгли мусор, в аккуратные штабеля складывали оставшийся кирпич и доски; на тропе, круто спускавшейся к ручью, вырубили порожки. Где ж тут было думать о выпивке!
– Ну, пан профессор, – растроганно сказал Стражецкий, – вы мне жизнь вернули… Дзенкую.
– Не за что, – засмеялся Аполлон. – Вы что, думаете, на этом конец? Не-е-т, пан Рышард, давайте топор точить, завтра с утра пойдем дрова на зиму запасать. Ведь это срам, в лесу живете, а на дворе – ни полена…
– Так, так, – покорно согласился Стражецкий и весь вечер, что-то напевая, шмурыгал бруском по широкому лезвию тупого, заржавленного топора.
Но пойти в лес с утра не удалось: пришел Денис Денисыч. Сидел, рассказывал о поездке в Камлык, о своих приключениях с бандитами.
– Позвольте, позвольте, – всполошился Аполлон. – Камлык… Камлык… Так ведь это же где-то недалеко от Баскакова? Так, кажется?
– Пятнадцать верст, – сказал Денис Денисыч. – Я теперь там все знаю. Азиятчина: Камлык, Садаково, Темрюки, Татарские Сакмы…
– Да-да-да… – задумчиво бубнил, хмурился профессор, вспоминая о незапертом чердачном люке в сенцах, сокрушаясь о легкомыслии чудно́й баскаковской барыни. – Да-да-да… История. Пренеприятнейшая, Денис Денисыч, история. И на кой черт, извини, понадобилось тебе брать с собой эти записки? Я, признаюсь, с огромным интересом прочел обе тетради – и ту, что сперва взял, и ту, что в Чека побывала…
– Вон как? – прямо-таки расцвел Денис Денисыч от похвалы. – С интересом, говоришь?
– С огромнейшим. Но помнишь, что я тогда, еще при первом чтении заметил? О языке?
– Да, да, слушаю…
– Попроще, попроще надо, милый друг. Слишком уж архаично иногда. Чересчур. Стоит ли? Я понимаю – эпоха, колорит, так сказать… Но вот беда – читать трудновато, эти разные там словечки, «язы» да «юзы»… Ей-ей, поправь, лучше станет.
– Да, да… Я и сам думал. Конечно, ты прав, Аполлон Алексеич, еще много надо поработать, – Денис Денисыч конфузился, егозил, но был счастлив и задорно смекал про себя, что черта с два он будет поправлять архаику, черта с два-с! – Но в общем-то, в общем-то, Аполлон Алексеич, а? Как оно в общем-то?
– Так ведь занятно же, говорю… Чертовски занятно! И все-таки… все-таки страшно подумать, какая махина! Тысячелетняя эпопея… Эк замахнулся!
– А тебе, Аполлон Алексеич, никогда не приходила в голову такая мысль, что человек хоть раз в жизни, а должен же, понимаешь, должен замахнуться?
Прищуривался, улыбался, щупленький, дробный, в чем только дух держится.
– Да ведь и сам-то ты, – продолжал Денис Денисыч, – сам-то только ведь и делаешь, что замахиваешься… Далеко за примером не ходить, – указал на кирпичные стены начатого строительства. – Разве что война вот помешала.
– Да, да, война…
Хорошо, незаметно прошел день. Денис Денисыч выглядел как-то по-особенному счастливо и весело.
– Ах, как же у вас чудесно! – в какой раз принимался он расхваливать лесное житье Аполлона. – Безлюдье, первобытность и этот трогательный Матейко на стене в каморке…
– Вот тут и пойми человека, – шутливо развел руками профессор. – Чуть не убили, рукопись потерял, страху натерпелся, а радуется, как младенец…
– Да как же не радоваться! – прямо-таки подпрыгнул Денис Денисыч. – Ведь я какое сокровище нашел! Ах, Аполлон Алексеич…
И он рассказал о камлыкском «чуде».
– Нет, об этом невозможно так, словами, это видеть надо. Я ведь, за жизнь многое повидал, но такое…
Часов в пять он собрался домой.
– Провожу немного, – вызвался Аполлон.
И вот тут-то снова, как тогда, ночью, громыхнуло все в той же стороне. Но то ли так чист был воздух, то ли ветерком оттуда тянуло, только показалось, что нынче намного ближе придвинулась военная гроза.
Аполлон сперва лишь до шоссе думал проводить Дениса Денисыча, но, когда загремело вдали, тревожной мыслью перекинулся в баскаковскую глушь: не случится ли так, что война отрежет Баскаково от города и Агния, беспомощная, слабая Агния окажется за линией фронта и будет подвержена всем тем страшным случайностям, какие неминуемо принесет с собой эта дурацкая междоусобица. Он вспомнил, что собирался написать жене насчет чердачного люка, и решил сделать это обязательно нынче же, не откладывая. Необходимо, значит, было дойти до института – ни бумаги, ни чернил, ни, тем более, почтового ящика во владениях пана Стражецкого не водилось.
После лесного приволья неуютно, одиноко показалось профессору в пустых комнатах. Так душно, так скучно было в квартире, так противно пахло пылью, клеенкой и железными трубами печки-буржуйки, что желание писать жене приостыло. К тому же в чернильнице оказались не чернила, а какая-то грязная кашица, которую пришлось разбавлять водой, и, пока разбавлял, пока по веем ящикам стола шарил, ища конверт, возиться с письмом и вовсе расхотелось. В нескольких строчках черкнул о Ритином отъезде, о чердачном люке и, словно отбыв неприятную повинность, наскоро запечатал конверт и собрался в обратный путь.
Без четверти десять пробило на институтских курантах, когда Аполлон запер дверь и вышел на улицу. Чья-то тень мелькнула, прижалась к стене у подъезда.
– Кто это? – окликнул профессор.
– Аполлон Алексеич? – робко, испуганно прошелестел Гракх, отделяясь от стены. – Вы слышите? Слышите?.. – Уцепился за полу Аполлоновой накидки. – Ка-а-кой ужас!
– А? Да-а, – рассеянно отозвался профессор, гремит…
– Так жутко… так невыносимо жутко быть одному в эти долгие ночи! – Лицо Ивана Карлыча белело, как маска, лишь темный рот кривился. – И обреченно ждать… ждать…
– Что-с? – не понял Аполлон. – Кого ждать?
– Когда наконец это приблизится вплотную… и ядра будут рваться над головами…
– Ах, ядра… га-га-га!
В тревожной, настороженной тишине нелепое ржание профессора прозвучало особенно грубо, кощунственно.
– Катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки…
Он галантно-насмешливо приподнял легкомысленный свой соломенный картузик «здравствуй-прощай» и зашагал в темноту.
«Боже, какой хам! – подумал Иван Карлыч, прислушиваясь к слоновьему топоту уже невидимого профессора. – И конечно, конечно, он красный, что бы там ни говорили… Это его фрондерство – для отвода глаз, не больше. А мы все самым глупейшим образом попали в ловушку с изъявлениями солидарности, жали руку… Глупцы!»
Когда шаги Аполлона совершенно растворились в тишине, Иван Карлыч поднялся к себе наверх. Прошел по пустым комнатам. Как мертво, как одиноко!