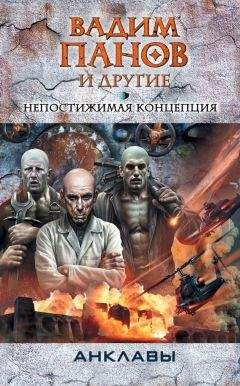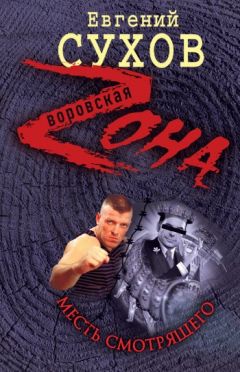Николай Гарин-Михайловский - Том 2. Студенты. Инженеры
Карташев не лечился.
— Я не хочу огорчать мать, — говорил он, — она и так меня не выносит, а там все-таки потом, когда все узнает… а может, не хватит и характеру сразу покончить с собой, но я измором возьму себя.
Он заставлял себя пить. Шацкий наотрез отказался составлять ему компанию, но Корнев в скромной обстановке всегда не прочь был уничтожить бутылку-другую пива.
Иногда, выпив, Корнев вдруг с удивлением спрашивал:
— Послушай, черт Тёмка, вот никогда не думал, что из тебя выйдет тоже пьяница. Ну, положим, я так: мой отец любил выпить, и дед любил, люблю и я. А ты? В кого ты?
Корнев ничего не знал о болезни Карташева.
— А почему и мне не пить?
— Ну, пей… А я буду, ох буду, как и батько, пьяницей… Вот кончим, в полк врачом поступим, во всем и всегда честь и место господину офицеру, а доктор так: фитюлька. И в собрании даже офицерском — Христа ради… где-нибудь в деревушке, в глуши… Соберу вокруг, как батько, компанию попов, и будем тянуть:
Со святыми упокой…
XXIX
Время шло. Каждый час, каждую минуту, даже во сне Карташев переживал все то же острое, мучительное сознание конца. Давила тоска, хотелось то плакать, то кричать, то просто забыться. Иногда он начинал лечиться и опять бросал.
— Эх! лучше всего в пьяном виде покончить с собой.
Он купил револьвер и постоянно носил его с собой. Пьяный, он вынимал его из кармана, смотрел, вертел перед глазами, примеривал его к виску.
— Тёмка, черт, что ты все с револьвером шляешься, — говорил ему Корнев, — уж не задумываешь ли что?
— Глупости: я никогда не лишу себя жизни…
— Почему глупости? Если б сила воли была — собственно, самое лучшее…
. . . . . . . . . . . . . . .
В одно утро, когда Карташев бы еще в постели и обдумывал, как бы скорее довести себя до твердого решения покончить с собой, раздался звонок, и в комнату вошел его дядя.
Карташев и бровью не моргнул: он смотрел на дядю, как на что-то теперь уж не имеющее до него никакого отношения.
— Ты что ж, и здороваться не хочешь?
— Со мной нельзя целоваться, — отстраняясь, холодно ответил Карташев, — болезнь заразительна.
— Глупости…
И дядя звонко поцеловался с ним, по обычаю, три раза.
Карташев исподлобья следил за тем, какое впечатление производит его вид на дядю.
— Глупый ты, глупый — вот что я тебе скажу: никакой у тебя болезни нет; просто растешь… у кого из нас, мужчин, не было такой болезни?
— И у вас была?
— И у меня была.
— Как же вы лечились?
— Дал фельдшеру десять рублей.
Карташева разбирало раздражение: ему хотелось сразу осадить дядю.
— Хотите, выпьем?
Сердце дяди сжалось от предложения племянника.
— С утра я не привык пить, — потупился он.
— Напрасно… с утра лучше всего…
И с непонятным для самого себя раздражением Карташев подошел к столу и налил себе из бутылки большую рюмку водки. Выпив ее, он налил вторую и тоже выпил.
Дядя старался делать вид, что ничего особенного не замечает. Он только проговорил упавшим голосом:
— А вот для твоей болезни водку пить не годится.
Карташев молча закусил сардинкой.
— Мама вас послала направить меня на путь истины?
Дядя растерялся, покраснел и замигал глазами.
— Тёма, как тебе не грех, — за что ты издеваешься надо мной? — обиделся он.
Голос дяди задел Карташева и вызвал доброе чувство.
— Бог с вами, я и не думаю издеваться над вами… — ответил он смущенно.
— Издеваешься… надо мной, над матерью, издеваешься над всеми святыми…
— Дядя, голубчик, я не знал, что вы все уже святые… И не думаю издеваться.
— Издеваешься! Потому что ты эгоист, о себе только думаешь и не хочешь подумать, каково-то там отзываются все твои штуки… Ведь та-то, которая тебя на свой позор на свет родила, любит тебя не так, как ты ее; для тебя шутки, ты о ней и не думаешь, а я потерял голову; я оставил ее в кровати уже; кроме тебя, пять душ у нее, и никто не на своей дороге… Зина развелась с мужем… Грех, грех, Тёма!
Карташев сидел облокотившись и молчал.
— Я думаю, что для всех было бы лучше поскорее избавиться от такого, как я…
— Ты думаешь? Если бы ты немножко больше любил тех, кто живет тобой, ты думал бы иначе… Я приезжаю к тебе за две тысячи верст, и ты не находишь ничего лучшего, как издеваться надо мной… Я старик… Показываешь, как ты водку пить научился…
Дядя дрожал, голос его дрожал, руки дрожали. Карташев встретился с его глазами и сказал:
— Дядя, голубчик, ну, извините… Теперь уж поздно говорить, — махнул он рукой, — я запустил свою болезнь настолько… Я весь уже пропитан ею.
— Да ерунда все это.
— Дядя, голубчик, — вспыхнул опять Карташев, — только не будем же так сплеча рубить: ерунда, ерунда… Я вам говорю то, что говорит наука, а вы: «Ерунда»!
Дядя задумался.
— Твоя мать поручила мне отвезти тебя к доктору. На что лучше наука…
— На что лучше, — угрюмо ответил Карташев.
— Тут у нее есть какой-то знакомый.
Дядя достал записную книжку и прочел фамилию доктора.
— Ну, одевайся, поедем. Да закуси хоть кофе, чтоб не несло от тебя водкой.
— Вы думаете, я уж настоящим пьяницей сделался? Я пью, но так и не могу привыкнуть.
— Для чего же ты пьешь?
— Чтоб скорее к развязке… — Карташев прочел боль и страдание на лице дяди и добавил: — Впрочем, как ни несносна жизнь, но если доктор скажет, что можно надеяться, я согласен бросить и буду лечиться. Вы взяли вопрос с другой стороны.
— Ты делаешь милость и снисходишь, чтобы жить для нас, — ответил дядя, отворачиваясь и смотря в окно.
— Ну, будет же: на меня не стоит сердиться.
— Тебя мама избаловала, папу на тебя надо было.
— Та-а-ак… Это, конечно, было бы лучше, потому что от папы я давно сбежал бы в Америку и, по крайней мере, стал человеком, а теперь я шут гороховый…
— Ну, брат, уважил ты… стою и думаю: да куда же девался наконец мой племянник Тёма?
Карташев усмехнулся.
— Тёма, собственно, умер, осталось только гнилое тело, в котором шевелятся еще черви, — это вы и принимаете за жизнь.
— Да ты просто с ума сошел!
Карташев рассмеялся.
— Сошел с рельсов, сошел с ума, сошел с колеи жизни… Лечу под откос, а вы разговариваете со мной, как с путным. Я ведь теперь и сам не знаю, что через секунду сделаю и с собой и с вами. Иногда иду по улице и думаю: брошусь и начну всех, всех, как бешеная собака, кусать, пусть не я один пропадаю, пусть заразятся и другие.
— Если бы это говорил какой-нибудь купеческий, избалованный сынок… но человек с высшим образованием…
— Э, дядя, оставьте хоть образование: ходим вокруг да около, а к образованию ума и сердца, как говорил Леонид Николаевич, еще не приступали… Навоз времен мы все с нашим образованием…
— Так ломаешься… не знаешь уж, что и говоришь.
— Не то что ломаюсь, а изломан уж весь…
— Ну, брось же ты, Тёма, этот тон… Порядочный человек… ну, застрелится, а не будет же через час по столовой ложке…
— Порядочный? так я же и не порядочный…
— Агусиньки! как маленький ребенок.
— Ну, вот, ребенок?.. И все, что я говорю вам, одно ребячество?
— Ребячество.
— И ничего заслуживающего внимания нет в этом?
— Нет.
— По чистой совести и правде?
— Как люблю моего бога.
— Просто с жиру человек бесится?
— Только.
— И можно так жить?
— Можно…
— Душа без тела может жить?
— Может, конечно… на том свете одна же душа.
— А на этом тело без души? Ну, тогда, конечно, больше не о чем и говорить: вы убедили меня, и я хочу жить!.. И какой же скотиной я сделаюсь, дядя, только ахнете… Возьмите…
Карташев вынул револьвер.
— Ты хотел лишить себя жизни?
— Да.
— Давно ты его носишь?
— Третий месяц.
— Можешь смело носить и дольше, — сказал дядя, положив револьвер на стол.
Карташев покраснел.
— Это зло и справедливо, но это только показывает, как и вы презираете меня.
— Мой друг! честное слово — уважать не за что.
— Конечно… но вы даже не признаете, что я добрый человек.
— Я вижу злость, раздражение, вижу, если хочешь, сумасшедшего человека, вижу массу дурных задатков, но ничего доброго.
— Дядя, голубчик, — захохотал Карташев, — а полгода тому назад что вы говорили?
— Тогда так и было.
— Значит, через полгода я стал другим человеком?
— Что ж? это постоянно бывает.
— А не бывает так, что, когда поля засеют гнилыми семенами и бурьян начнет глушить их, говорят: не то сеяли? Ведь поле-то сеял не я.
— Да, ты святой: перед тобой только свечку зажечь… Экая же, ей-богу, подлость человеческой натуры!.. сам наделал гадостей и всех, всех обвиняет, кроме себя. Ей-богу, Тёма, в тебе нет даже гордости твоего рода.