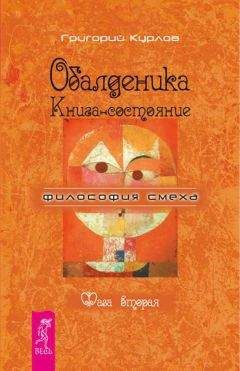Николай Лесков - Том 8
Ермий затрясся от страха, завернулся к стене и закрыл свою голову рогожей.
А Памфалон тихо молвил, нагнувшись в его сторону:
— Вот видишь, досуг ли мне размышлять о высоком! — и, сразу же переменив тон на громкий и веселый, он отвечал женщинам:
— Сейчас, сейчас иду к вам, мои нильские змейки.
Памфалон свистнул свою Акру, взял шест, на котором в обруче сидела его пестрая птица, и, захватив другие свои скоморошьи снаряды, ушел, загасив лампу. Ермий остался один в пустом жилище.
Глава одиннадцатая
Ермий не скоро позабылся сном. Он долго размышлял: как ему согласить в своем понятии то, для чего он шел сюда, с тем, что здесь находит. Конечно, можно сразу видеть, что скоморох человек доброго сердца, но все же он человек легкомысленный: он потехи множит, руками плещет, ногами танцует и тростит головой, а оставить эти бесовские потехи не желает. Да и может ли он сделать это, так далеко затянувшись в разгульную жизнь? Вот где он, например, находится теперь, после того как ушел с этими бесстыжими женщинами, после которых еще стоит в воздухе рокотанье их крови и веянье страстного пота Силена?
Если таковы были посланницы, то какова же должна быть та, которой они служат в ее развращенном доме!..
Отшельник содрогнулся.
Для чего же было ему, после тридцати лет стояния, слезать со скалы, идти многие дни с страшной истомой, чтобы прийти и увидеть в Дамаске… ту же темную скверну греха, от которой он бежал из Византии? Нет, верно не ангел божий его сюда послал, а искусительный демон! Нечего больше и думать об этом, надо сейчас же встать и бежать.
Тяжело было старцу подняться — ноги его устали, путь далек, пустыня жарка и исполнена страхов, но он не пощадил своего тела… он встает, он бредет во тьме по стогнам* Дамаска, пробегает их: песни, пьяный звон чаш из домов, и страстные вздохи нимф, и самый Силен — всё напротив его, как волна прибоя; но ногам его дана небывалая сила и бодрость. Он бежит, бежит, видит свою скалу, хватается за ее кремнистые ребра, хочет влезть в свою расщелину, но чья-то страшно могучая рука срывает его за ноги вниз и ставит на землю, а незримый голос грозно говорит ему:
— Не отступай от Памфалона, проси его рассказать тебе, как он совершил дело своего спасения.
И с этим Ермия так дунуло вспять, что он едва не задохся от бури, и, открыв глаза, видит день, и он опять в жилище Памфалона, и сам скоморох тут лежит, упав на голом полу, и спит, а его пес и разноперая птица дремлют…
Возле изголовья Ермия стояли два сосуда из глины — один с водою, другой с молоком, и на свежих зеленых листах мягкий козий сыр и сочные фрукты.
Ничего этого с вечера здесь не было…
Значит, пустынник спал крепко, а его усталый хозяин, когда возвратился, еще не прямо лег спать, а прежде послужил своему гостю.
Скоморох поставил гостю все, что где-то достал, чтобы гость утрам встал и мог подкрепиться…
Ни сыру, ни плодов в доме у Памфалона не было, а все это, очевидно, ему было дано там, где он вертелся и тешил гуляк у гетеры.
Он взял подачку от гетеры и принес это страннику.
«Чудак мой хозяин», — подумал Ермий и, встав с постели, подошел к Памфалону, взглянул в лицо его и засмотрелся. Вчера вечером он видел Памфалона при лампе и готового на скоморошество, с завитою головою и с лицом, разрисованным красками, а теперь скоморох спал, смыв с себя скоморошье мазанье, и лицо у него было тихое и прекрасное. Ермию казалось, будто это совсем не человек, а ангел.
«Что же! — подумал Ермий, — может быть, я не обманут; может быть, не было надо мной искушения, а это именно тот самый Памфалон, который совершеннее меня и у которого мне надо чему-то научиться. Боже! как это узнать? Как разрешить это сомненье?
И старик заплакал, опустился перед скоморохом на колени и, обняв его голову, стал звать со слезами его по имени.
Памфалон проснулся и опросил:
— Что тебе угодно от меня, мой отец?
Но увидев, что старец плачет, Памфалон встревожился, спешно встал и начал говорить:
— Зачем я вижу слезы на старом лице твоем? Не обидел ли тебя кто-нибудь?
А Ермий ему отвечает:
— Никто меня не обидел, кроме тебя, потому что я пришел к тебе из моей пустыни, чтобы узнать от тебя для себя полезное, а ты не хочешь сказать мне: чем ты угождаешь богу; не скрывайся и не мучь меня: я вижу, что живешь ты в жизни суетной, но мне о тебе явлено, что ты богу любезен.
Памфалон задумался и потом говорит:
— Поверь, старик, что в моей жизни нет ничего такого, что бы можно взять в похвалу, а, напротив, все скверно.
— Да ты, может быть, сам не знаешь?
— Ну, как не знать! Я знаю, что живу, как ты сам видишь, в суете, и вдобавок еще имею такое дрянное сердце, которое даже не допускает меня стать на лучшую степень.
— Ну вот скажи мне хоть об этом: какой вред сделало тебе твое сердце и как оно не допускает тебя стать на иной степень? Как это было, что ты почувствовал себя хорошо, когда сделал дурно?
— Ага! про это изволь, — отвечал Памфалон, — если ты так уже непременно этого требуешь, то я тебе расскажу этот случай, но только ты после моего рассказа, наверно, не захочешь ко мне возвратиться. Восстанем же лучше и пойдем отсюда за город, в поле: там на свободе я расскажу тебе про то происшествие, которое совсем меня отдалило от надежды исправления.
— Пойдем, бога ради, скорее, — отвечал Ермий, покрываясь своими ветхими лохмотьями.
Они оба вышли за город, сели над диким обрывистым рвом, у ног их легла Акра, и Памфалон начал сказывать.
Глава двенадцатая
— Ни за что я не стал бы тебе рассказывать, — начал Памфалон, — о чем ты меня просишь, но как ты непременно хочешь считать меня за хорошего человека, а мне от этого стыдно, потому что я этого не стою, а стою одного лишь презренья, то я расскажу. Я большой грешник и бражник, но, что всего хуже еще, — я обманщик, и не простой обманщик: а я обманул бога в данном ему обете как раз в то самое время, когда получил невероятным образом возможность обет свой исполнить. Слушай, пожалуйста, и суди меня строго. Я желаю в твоем суде получить целебную рану, какую заслужил себе в наказание.
Нечистоту моей скоморошьей жизни ты видел, и все дальнейшее посему понять можешь. Кругом я грязен и скверен. Я тебе правду сказал, что рассуждать о божественном я не научен и по жизни моей мне редко когда это приходит на мысль, но ты прозорлив — бывали случаи, что и я о своей душе думал. Вертишься ночь бражникам на потеху, а когда перед утром домой возвращаешься, и задумаешься: стоит ли этак жить? Грешишь для того, чтобы пропитаться, и питаешься для того, чтоб грешить. Все так и вертится, Но человек ведь, отче, лукав и во всяком своем положении ищет себе смоковничьи листья, чтобы прикрыть свою срамоту. Таков же и я: и я себе не раз думал: я в грехе погряз от нужды, я что добуду, тем едва пропитаюсь; вот если бы у меня сразу случились такие деньги, чтобы я мог купить хоть очень малое поле и работать на нем, так тогда бы я сейчас же оставил свое скоморошье и стал бы жить, как другие, степенные люди. Да не мог я этого достичь, и не потому, чтобы никогда в мои руки денег не попадало, — нет, деньги бывали, а всегда что-нибудь такое случалось, что я не успею собрать сколько нужно, как уже все собранное и растрачу; случится кто-нибудь в горе, и мне его станет жаль, и я промотаюсь. Если бы мне враз пришло в руки много денег, тогда бы я, наверно, скоморошество оставил и перешел на степенность, а шить лоскут к лоскуту я не умею. Зачем меня бог так устроил? Но если он щедрой рукой когда-нибудь враз мне поможет, — ну, тогда я воздержусь и стану жить хорошо, как прочие благородные люди, которых почитают и монахи, и клирики, и все ожидающие себе царствия небесного.
И что же ты думаешь! точно как с того будто слова случилось: вдруг выпал мне такой удивительный случай, о каком, казалось, невозможно было и думать. Слушай прилежно меня и суди меня строго.
Вот что было раз в моей жизни.
Был я позван однажды тешить гостей у одной здешней гетеры Азеллы. Она немолода, но ее красота долголетня, и Азелла всех здесь красивей, пышней и умнее. Гостей было много, и всё чужеземцы из Рима и хвастуны богачи из Коринфа. Все упивались вином и меня беспрестанно заставляли играть им и петь. Другие хотели, чтобы я смешил их, и я всем угождал, как хотели. А когда я уставал, они не желали этого знать и надо мною обидно смеялись, толкали, насильно поили вином, в которое сыпали неприятную подмесь; обливали меня и злили мою бедную Акру. Они дергали ее за ляжки и плевали ей в нос, а когда Акра рычала, они ее били и даже грозились убить; я все это сносил, лишь бы побольше от них заработать, потому что, признаюсь тебе, мне надобно было тогда отправить на родину одного калеку-воина. Зато умная гетера Азелла, видя, как меня обижали, обратила это все в мою пользу: она раскрыла свою тунику и заставила всех кинуть мне несколько денег, гости же спьяну набросали мне много, а особенно один, горделивый и тучный Ор коринфянин, с надутым брюхом без шеи. Ор громко сказал: