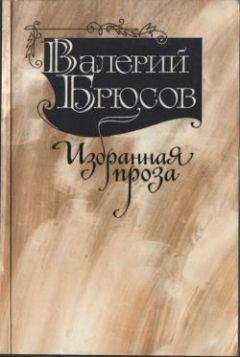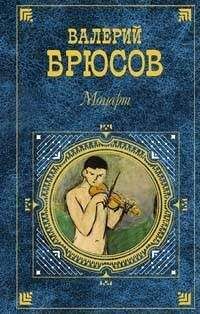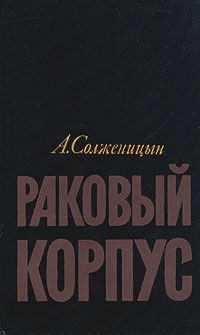Валерий Брюсов - Том 5. Алтарь победы. Юпитер поверженный
Найдя осколок камешка я рядом выцарапал свои эпиграммы и после не раз сам перечитывал их, самодовольно находя, что они могут выдержать соперничество со стихами моего славного соотечественника, Авсония. Особенно остались у меня в памяти две эпиграммы:
IНочь вышивает по сини огнистых созвездий узоры,
Ночью сильней аромат Флоры прекрасных детей,
Ночью на темных распутьях волхвы вызывают Гекату,
Ночь — для веселых пиров, ночь — для любовных утех.
Днем проходит над миром Титан в венце лучезарном,
Сменою красок глаза день многоцветный слепит,
Днем произносит решенья консул на кресле курульном,
В школах днем мудрецы мудрые речи ведут.
Что же я изберу: неба ясность, любезную Фебу,
Или поля темноты, бродит его где сестра?
Будьте равно мне желанны, сень ночи и своды дневные:
Мудрым я буду в одних, буду счастливым в другой.
Евредику — змея, Орфея — взгляд, дар — Алкида,
Город троян — красота, сына Атрида — жена,
Этих губит любовь, тех ревность, тех алчность, тех скупость, —
Что же такое вся жизнь: ряд беспощадных силков.
Сознаюсь, впрочем, что рядом со своими стихами я написал также следующие слова: «Дочь Кебрена, я отомщу тебе!»
Злоба против Гесперии не покидала меня и в эти дни, и я, мечтая о том, что вновь буду на свободе, неутомимо составлял замыслы мщения.
Однако богиня Надежда недолго гостила в моей темнице, и суровая действительность скоро заставила ее опять распустить крылья и улететь к другим, чтобы и их обманывать своими льстивыми песнями. Прежде всего, день проходил за днем, а помощи не являлось ниоткуда, даже никакой вести я не получал от моих друзей. Потом, после ряда тщетных опытов, я убедился, что оковы прочно держатся на моих руках и ногах и что даже сколько-нибудь ослабить цепь, приковывающую меня к стене, я не в силах; поистине, оковы были «адамантовые», как у Прометея, и уже по одному тому мечтать о побеге было безумно. Кроме того, дурная еда и спертый воздух сделали то, что ко мне вернулась болезнь, и я вновь стал то дрожать от нестерпимого холода, то пылать в невыносимом огне. Снова мною овладело уныние, я позабыл о стихах, и снова целые дни проводил на ложе, в неподвижности, даже не поворачивая головы к тюремщикам, когда они входили в темницу.
В эти дни я обратился душой к богам. Я молил о помощи и спасении бессмертных, давая обеты всякого рода, обещал принести богатые жертвы, если буду освобожден, клялся отдавать десятую долю всего, что буду получать, Геркулесу, если он мне поможет. В тюрьме не было алтаря, который я мог бы обнять, и некому было мне подсказывать точные слова молитв, но, и взывая своими словами, с непокрытой головой, я все же молился усерднее многих других, надевших белые тоги, украсивших головы венками из листьев, повторявших слова самого великого понтифика. Я возносил моления Юпитеру всемогущему, Меркурию с окрыленной стопой, таинственному Митре, которого философы отождествляют с Солнцем и Аполлоном, и той Великой Матери Богов, святилище которой особенно чтится в нашей Лакторе.
Я дошел до такого унижения, что обращался с мольбами даже к иудейскому Христу, обещая уверовать в него и сделаться христианином, если он спасет меня. Я припоминал слова христианских молитв, которые мне случалось слышать, обращался к богу, называл его «Отче наш» и, стоя на коленях, умолял простить мне мои грехи. «Твой ангел вывел из темницы апостола Петра, — говорил я, — выведи меня, и я уверую в тебя! Ты явился, на пути в Дамаск, Савлу, гнавшему твоих последователей, и Савл стал твоим апостолом: явись мне, и я пойду проповедовать твое имя!» Я крестился, как то делают некоторые христиане, и распростирался ниц, как перед алтарем.
Потом моя болезнь усилилась до того, что меня стал мучить бред. Лежа без сознания, я видел перед собой тех, кого там не было, и слышал голоса, которые там не раздавались. То мне представлялось, что я нахожусь в лупанаре, где Pea изобретает неведомые формы ласк и заставляет меня, вместе с толпою продажных женщин, поклоняться Змею; то, что я сижу на пиру, в доме Коликария, и всех изумляю разумностью своих речей. Один раз мне показалось, что ко мне в темницу вошел тот юноша, похожий на Антиноя, с кроваво-алыми губами, которого мы с Реей облекли в пурпур, и, торжествуя, сказал мне: «Я сделаюсь царем мира, народы поклонятся мне, а ты за это должен будешь погибнуть. Твое тело — ступень к моему трону!» Другой раз я явственно увидел, как сквозь стену, в легком сиянии, проник Циллений, являвшийся в таком виде отцу-Энею, и, простирая ко мне свой кадуцей, произнес стих, не знаю откуда сохранившийся в моей памяти:
Орк в преисподнюю вас, не колеблясь, умчит, обнаженных.
Но чаще всего являлась мне Гесперия, — в различных образах, одетая в шелк и совсем обнаженная, но всегда с жестокой усмешкой на устах и с беспощадными словами. То она перед моими глазами совершала любодейство с наряженным, как женщина, Юлианием, то злобно потешалась над моим бессилием и несчастием, то, став на колени, говорила: «Ведь я тебя поцеловала, мой Юний, мой милый Юний, чего же тебе больше! Разве мой поцелуй не достаточная награда за жизнь? не говорил ли этого ты мне сам? Я даже скучала по тебе в Риме. Разве это не высшее, о чем может мечтать человек? Тебя будут терзать пытками, будут ломать твои кости, вырывать твои жилы, выжгут тебе глаза, — но ты восклицай: „Я счастлив, потому что терплю все это во имя прекрасной Гесперии!“ А я, поистине, прекрасна!» И, говоря так, она изгибала свое обнаженное тело, показывала мне плечи, грудь, бедра, являла всю красоту статуи и все величие богини, показывала всю ловкость гетеры и все искусство жрицы Приапа. А когда, в порыве желания и ярости, я устремлялся к Гесперии, она ускользала от моих рук, хохотала издали и опять кричала мне: «Не забудь, что ты прикован цепью! Ты свое получил от меня — поцелуй, один поцелуй, а другие получают все остальное, мои ласки, мою любовь, мои страстные слова!»
Такие видения бреда мучили меня беспрерывно целыми часами, а, очнувшись, я опять видел вокруг сырые стены темницы, каменный пол, с бегающими по нем сороконожками, да тусклое пятно над дверью, откуда лился слабый серый свет, непохожий на солнечный луч. И мне приходило в голову, что обо мне просто позабыли, что долгие годы, всю, может быть, жизнь мне суждено провести в подземелиях священного дворца, что к солнцу и к звездам я вновь выйду лишь седым и расслабленным стариком.
XIII
Мне казалось, что я в темнице провел бесконечно много дней, число которых я даже перестал считать. Между тем, как я узнал потом, все мое заключение длилось немногим больше месяца. Но болезнь заставляла меня видения бреда принимать за действительность и недолгое, сравнительно, испытание превратила для меня в бесконечную пытку.
Было утро, как я догадывался по тому, что забранное решеткой отверстие над дверью чуть-чуть серело, когда ко мне в темницу, кроме обычных двух тюремщиков, вошло еще двое стражей. Я лежал на соломе, измученный ночным бредом, весь содрогаясь от внутреннего холода, и не обратил на вошедших никакого внимания. Но вместо того, чтобы швырнуть мне полукруг хлеба и поставить около моего ложа разбитый кувшин с водой, пришедшие приблизились ко мне и стали снимать с меня цепи, одну отперев ключом, другие разбивая молотком. Смутно я подумал, что меня сейчас поведут на допрос и на пытку, но в ту минуту мне все было безразличным, и я не сделал никакой попытки сопротивляться.
Освободив меня от цепей, тюремщики подняли меня, но я не мог стоять на затекших ногах и валился, как раненный насмерть гладиатор. Тогда двое из вошедших, обменявшись словами на незнакомом мне языке, взяли меня за руки и поволокли к двери. Я почти не мог ступать, и меня несли, как безжизненное тело.
За дверью темницы была лестница, и мы, пройдя по ней ступеней пятьдесят, оказались на площадке с низенькой железной дверью; люди, ведшие меня, открыли эту дверь, и я вдруг оказался на маленьком внутреннем дворе дворца, окруженном высокими белыми стенами, ослепительно сверкавшими под ясным зимним солнцем. Этот яркий свет, вонзившийся в мои глаза, привыкшие к постоянной темноте, показался мне ударом ножа, — я зажмурился от боли и ужаса. В то же время чистый январский воздух, влившийся в мою грудь, опьянил меня, как самое крепкое вино, и несколько минут я ничего не понимал.
Когда, наконец, я открыл глаза и, щурясь от нестерпимого блеска, стал озираться, растворились ворота, и я увидел, что прямо ко мне идет Симмах, улыбаясь и наклоняя голову в знак приветствия. Вдруг безмерная радость охватила меня; я не думал в ту минуту о том, что мне принес Симмах, добрые вести или плохие, пришел ли он спасти меня или в последний раз проститься со мной: я был счастлив уже тем, что вновь увидел человека, себе близкого, что могу сказать хоть одно слово тому, кто меня знает. Я упал бы на колени, если бы стражи не поддерживали меня, и воскликнул: