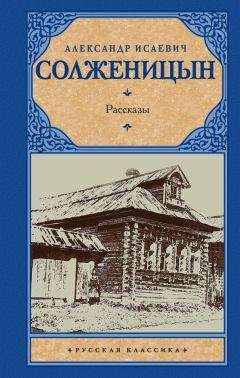Николай Чернышевский - Что делать?
Отправились домой в 11 часов. Старухи и дети так и заснули в лодках; хорошо, что запасено было много теплой одежды, зато остальные говорили безумолку, и на всех шести яликах не было перерыва шуткам и смеху.
VII
Через два дня, за утренним чаем, Вера Павловна заметила мужу, что цвет его лица ей не нравится. Он сказал, что действительно эту ночь спал не совсем хорошо и вчера с вечера чувствовал себя дурно, но что это ничего, немного простудился на прогулке, конечно, в то время, когда долго лежал на земле после беганья и борьбы; побранил себя за неосторожность, но уверил Веру Павловну, что это пустяки. Он отправился на свои обыкновенные занятия; за вечерним чаем говорил, что, кажется, совершенно все прошло, но поутру на другой день сказал, что ему надобно будет несколько времени посидеть дома. Вера Павловна, сильно встревожившаяся и вчера, теперь серьезно испугалась и потребовала, чтобы Дмитрий Сергеич пригласил медика. — «Да ведь я сам медик, и сам сумею лечиться, если понадобится; а теперь пока еще не нужно», — отговаривался Дмитрий Сергеич. Но Вера Павловна была неотступна, и он написал записку Кирсанову, говорил в ней, что болезнь пустая и что он просит его только в угождение жене.
Поэтому Кирсанов не поторопился: пробыл в гошпитале до самого обеда и приехал к Лопуховым уже часу в 6-м вечера.
— Нет, Александр, я хорошо сделал, что позвал тебя, — сказал Лопухов: — опасности нет, и вероятно не будет; но у меня воспаление в легких. Конечно, я и без тебя вылечился бы, но все-таки навещай. Нельзя, нужно для очищения совести: ведь я не бобыль, как ты.
Долго они щупали бока одному из себя, Кирсанов слушал грудь, и нашли оба, что Лопухов не ошибся: опасности нет, и вероятно не будет, но воспаление в легких сильное. Придется пролежать недели полторы. Немного запустил Лопухов свою болезнь, но все-таки еще ничего.
Кирсанову пришлось долго толковать с Верою Павловною, успокоивать ее. Наконец, она поверила вполне, что ее не обманывают, что, по всей вероятности, болезнь не только не опасна, но и не тяжела; но ведь только «по всей вероятности», а мало ли что бывает против всякой вероятности?
Кирсанов стал бывать по два раза в день у больного: они с ним оба видели, что болезнь проста и не опасна. На четвертый день поутру Кирсанов сказал Вере Павловне:
— Дмитрий ничего, хорош: еще дня три-четыре будет тяжеловато, но не тяжеле вчерашнего, а потом станет уж и поправляться. Но о вас, Вера Павловна, я хочу поговорить с вами серьезно. Вы дурно делаете: зачем не спать по ночам? Ему совершенно не нужна сиделка, да и я не нужен. А себе вы можете повредить, и совершенно без надобности. Ведь у вас и теперь нервы уж довольно расстроены.
Долго он урезонивал Веру Павловну, но без всякого толку. «Никак» и «ни за что», и «я сама рада бы, да не могу», т. е. спать по ночам и оставлять мужа без караула. Наконец, она сказала: — «да ведь все, что вы мне говорите, он мне уже говорил, и много раз, ведь вы знаете. Конечно, я скорее бы послушалась его, чем вас, — значит, не могу».
Против такого аргумента нечего было спорить, Кирсанов покачал головою и ушел.
Приехав к больному в десятом часу вечера, он просидел подле него вместе с Верою Павловною с полчаса, потом сказал: «Теперь вы, Вера Павловна, идите отдохнуть. Мы оба просим вас. Я останусь здесь ночевать».
Вере Павловне было совестно: она сама наполовину, больше, чем наполовину, знала, что как будто и нет необходимости сидеть всю ночь подле больного, и вот заставляет же Кирсанова, человека занятого, терять время. Что ж это, в самом деле? да, как будто не нужно?.. «как будто», а кто знает? нет, нельзя оставить «миленького» одного, мало ли что может случиться? да, наконец, пить захочет, может быть, чаю захочет, ведь он деликатный, будить не станет, значит, и нельзя не сидеть подле него. Но Кирсанову сидеть не нужно, она не дозволит. Она сказала, что не уйдет, потому что не очень устала, что она много отдыхает днем.
— В таком случае, простите меня, но я прошу вас уйти, решительно прошу.
Кирсанов взял ее за руку и почти силою отвел в ее комнату.
— Мне, право, совестно перед тобою, Александр, — проговорил больной: — какую смешную роль ты играешь, сидя ночь у больного, болезнь которого вовсе не требует этого. Но я тебе очень благодарен. Ведь я не могу уговорить ее взять хоть сиделку, если боится оставить одного, — никому не могла доверить.
— Если б я этого не видел, что она не может быть спокойна, доверив тебя кому-нибудь другому, разумеется, не стал бы я нарушать своего комфорта. Но теперь, надеюсь, уснет: ведь я медик и твой приятель.
В самом деле, Вера Павловна, как дошла до своей кровати, так и повалилась и заснула. Три бессонные ночи сами по себе не были бы важны. И тревога сама не была бы важна. Но тревога вместе с бессонными ночами, да без всякого отдыха днем, точно была опасна; еще двое-трое суток без сна, она бы сделалась больна посерьезнее мужа.
Кирсанов провел еще три ночи с больным; его-то это мало утомляло, конечно, потому что он преспокойно спал, только из предосторожности запирал дверь, чтобы Вера Павловна не могла увидеть такой беспечности. Она и подозревала, что он спит на своем дежурстве, но все-таки была спокойна: ведь он медик, так чего же опасаться? Он знает, когда можно ему спать, когда нет. Ей было совестно, что она не могла прежде успокоиться, чтобы не тревожить его, но теперь уж он не обращал внимания на ее уверения, что будет спать, хотя бы его тут и не было: — «вы виноваты, Вера Павловна, и за то должны быть наказываемы. Я вам не доверяю».
Но через четыре дня было уже очевидно для нее, что больной почти перестал быть больным, улики ее скептицизму были слишком ясны: в этот вечер они втроем играли в карты, Лопухов уже полулежал, а не лежал, и говорил очень хорошим голосом. Кирсанов мог прекратить свои сонные дежурства и объявил об этом.
— Александр Матвеич, почему вы совершенно забыли меня, именно меня? С Дмитрием вы все-таки хороши, он бывает у вас довольно часто; но вы у нас перед его болезнью не были, кажется, с полгода; да и давно так. А помните, вначале ведь мы с вами были дружны.
— Люди переменяются, Вера Павловна. Да ведь я и страшно работаю, могу похвалиться. Я почти ни у кого не бываю: некогда, лень. Так устаешь с 9 часов до 5 в гошпитале и в Академии, что потом чувствуешь невозможность никакого другого перехода, кроме как из мундира прямо в халат. Дружба хороша, но не сердитесь, сигара на диване, в халате — еще лучше.
В самом деле Кирсанов уже больше двух лет почти вовсе не бывал у Лопуховых. Читатель не замечал его имени между их обыкновенными гостями, да и между редкими посетителями он давно стал самым редким.
VIII
Проницательный читатель, — я объясняюсь только с читателем: читательница слишком умна, чтобы надоедать своей догадливостью, потому я с нею не объясняюсь, говорю это раз-навсегда; есть и между читателями немало людей не глупых: с этими читателями я тоже не объясняюсь; но большинство читателей, в том числе почти все литераторы и литературщики, люди проницательные, с которыми мне всегда приятно беседовать, — итак, проницательный читатель говорит: я понимаю, к чему идет дело; в жизни Веры Павловны начинается новый роман; в нем будет играть роль Кирсанов; и понимаю даже больше: Кирсанов уже давно влюблен в Веру Павловну, потому-то он и перестал бывать у Лопуховых. О, как ты понятлив, проницательный читатель: как только тебе скажешь что-нибудь, ты сейчас же замечаешь: «я понял это», и восхищаешься своею проницательностью. Благоговею перед тобою, проницательный читатель.
Итак, в истории Веры Павловны является новое лицо, и надобно было бы описать его, если бы оно уже не было описано. Когда я рассказывал о Лопухове, то затруднялся обособить его от его задушевного приятеля и не умел сказать о нем почти ничего такого, чего не надобно было бы повторить и о Кирсанове. И действительно, все, что может (проницательный) читатель узнать из следующей описи примет Кирсанова, будет повторением примет Лопухова. Лопухов был сын мещанина, зажиточного по своему сословию, то есть довольно часто имеющего мясо во щах; Кирсанов был сын писца уездного суда, то есть человека, часто не имеющего мяса во щах, — значит и наоборот, часто имеющего мясо во щах. Лопухов с очень ранней молодости, почти с детства, добывал деньги на свое содержание; Кирсанов с 12 лет помогал отцу в переписывании бумаг, с IV класса гимназии тоже давал уже уроки. Оба грудью, без связей, без знакомств пролагали себе дорогу. Лопухов был какой человек? в гимназии по-французски не выучивались, а по-немецки выучивались склонять der, die, das с небольшими ошибками; а поступивши в Академию, Лопухов скоро увидел, что на русском языке далеко не уедешь в науке: он взял французский словарь, да какие случились французские книжонки, а случились: Телемак, да повести г-жи Жанлис, да несколько ливрезонов нашего умного журнала Revue Etrangere, — книги все не очень заманчивые, — взял их, а сам, разумеется, был страшный охотник читать, да и сказал себе: не раскрою ни одной русской книги, пока не стану свободно читать по-французски; ну, и стал свободно читать. А с немецким языком обошелся иначе: нанял угол в квартире, где было много немцев-мастеровых; угол был мерзкий, немцы скучны, ходить в Академию было далеко, а он все-таки выжил тут, сколько ему было нужно. У Кирсанова было иначе: он немецкому языку учился по разным книгам с лексиконом, как Лопухов французскому, а по-французски выучился другим манером, по одной книге, без лексикона: евангелие — книга очень знакомая; вот он достал Новый Завет в женевском переводе, да и прочел его восемь раз; на девятый уже все понимал, — значит, готово. Какой человек был Лопухов? — Вот какой: шел он в оборванном мундире по Каменно-Островскому проспекту (с урока, по 50 коп. урок, верстах в трех за Лицеем). Идет ему навстречу некто осанистый, моцион делает, да как осанистый, прямо на него, не сторонится; а у Лопухова было в то время правило: кроме женщин, ни перед кем первый не сторонюсь; задели друг друга плечами; некто, сделав полуоборот, сказал: «что ты за свинья, скотина», готовясь продолжать назидание, а Лопухов сделал полный оборот к некоему, взял некоего в охапку и положил в канаву, очень осторожно, и стоит над ним, и говорит: ты не шевелись, а то дальше протащу, где грязь глубже. Проходили два мужика, заглянули, похвалили; проходил чиновник, заглянул, не похвалил, но сладко улыбнулся; проезжали экипажи, — из них не заглядывали: не было видно, что лежит в канаве; постоял Лопухов, опять взял некоего, не в охапку, а за руку, поднял, вывел на шоссе, и говорит: «Ах, милостивый государь, как это вы изволили оступиться? Не повредились, надеюсь? Позвольте вас обтереть?» Проходил мужик, стал помогать обтирать, проходили два мещанина, стали помогать обтирать, обтерли некоего и разошлись. С Кирсановым не было такого случая, а был другой случай. Некая дама, у которой некие бывали на посылках, вздумала, что надобно составить каталог библиотеки, оставшейся после мужа-вольтерианца, который умер за двадцать лет перед тем. Зачем именно через двадцать лет понадобился каталог, неизвестно. Составлять каталог подвернулся Кирсанов, взялся за 80 р.; работал полтора месяца. Вдруг дама вздумала, что каталог не нужен, вошла в библиотеку и говорит: «не трудитесь больше, я передумала; а вот вам за ваши труды», и подала Кирсанову 10 р. — «Я ваше ***, даму назвал по титулу, сделал уже больше половины работы: из 17 шкапов переписал 10». — «Вы находите, что я вас обидела в деньгах? Nicolas, поди сюда, переговори с этим господином». Влетел Nicolas. — «Ты как смеешь грубить maman?» — «Да ты, молокосос, — выражение неосновательное со стороны Кирсанова: Nicolas был старше его годами пятью, — выслушал бы прежде». — «Люди!» — крикнул Nicolas. — «Ах, люди? Вот я тебе покажу людей!» Во мгновение ока дама взвизгнула и упала в обморок, а Nicolas постиг, что не может пошевельнуть руками, которые притиснуты к его бокам, как железным поясом, и что притиснуты они правою рукою Кирсанова, и постиг, что левая рука Кирсанова, дернувши его за вихор, уже держит его за горло и что Кирсанов говорит: «посмотри, как легко мне тебя задушить» — и давнул горло; и Nicolas постиг, что задушить точно легко, и рука уже отпустила горло, можно дышать, только все держится за горло. А Кирсанов говорит, обращаясь к появившимся у дверей голиафам: «Стой, а то его задушу, Расступитесь, а то его задушу». Все это постиг Nicolas в одно мгновение ока и сделал помавание носом, что, дескать, он основательно рассуждает. «Теперь проводи-ко, брат, меня до лестницы», сказал Кирсанов, опять обратясь к Nicolas, и, продолжая попрежнему обнимать Nicolas, вышел в переднюю и сошел с лестницы, издали напутствуемый умиленными взорами голиафов, и на последней ступеньке отпустил горло Nicolas, отпихнул самого Nicolas и пошел в лавку покупать фуражку вместо той, которая осталась добычею Nicolas.