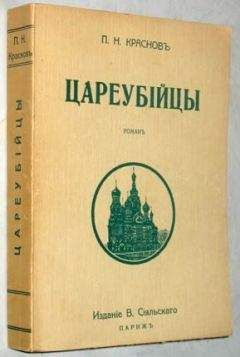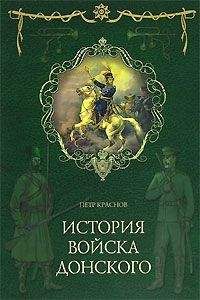Петр Краснов - Largo
— Вижу. Но его подписали те, кому студенты и студентки составляют благодарную галерку. Писатель?… Как не подпишет он такого воззвания? Это заслужить немилость прессы, которая почти вся в еврейских руках. Это попасть под еврейский «херем», быть замолчанным, забытым… или обруганным и оклеветанным… Надо иметь много гражданского мужества, чтобы на это пойти. То же и адвокат. Для него эта подпись — взрыв аплодисментов в ближайшее заседание суда, увеличение популярности, позолота на его вывеску… Академик, профессор — это все люди, кому иногда дешевая слава дороже честного имени… Да и так ли много их подписало это воззвание? На несколько тысяч профессоров — набрали около десятка… Нет, Владимир Васильевич, всю жизнь искал я правду, всю жизнь боролся за правду и ради нее избрал свою тяжелую профессию — так уже увольте — меня-то не купите… Ничем не купите.
— Подумайте, Яков Кронидович… Советую подумать. Вы на линии профессора.
— Так говорят.
— Если вы будете участвовать в этом ужасном деле, вы не попадете в профессора. Коллеги вас забаллотируют.
— Не думаю.
— Хорошо… Допустим даже, что вы пройдете…. Студенты, когда узнают о вашем участии… когда не увидят вашей подписи под воззванием, будут бойкотировать вас… Они не будут посещать ваших лекций.
— Не думаю и этого. Я лучшего мнения о нашей учащейся молодежи.
— Попомните мои слова, — зловеще поблескивая глазами сказал Стасский. — Вы неисправимы. Недаром вы из духовного звания.
— При чем тут мое происхождение?
— Атавизм тянет вас к богам. Вы готовы сами душить еврейский народ и устраивать погромы.
— Нет, Владимир Васильевич, я просто считаю, что именно утаивание правды готовит погром. У нас суд открытый и гласный. Менделя Дреллиса будут судить присяжные.
— О, их подберут!.. Их наберут из самых махровых черносотенцев… из погромщиков… Поверьте… полиция об этом позаботится.
— Полиция к этому никакого отношения не имеет. Вот евреи, интеллигентные, большие евреи, часто спрашивают, что нам, неевреям, в них не нравится? Да вот это-то нам и не нравится, что по всякому делу, которое коснется еврея — они поднимают ужасный шум, мешают правосудию, что они — деньгами ли, своим ли влиянием и авторитетом, заставляют Русских честных людей делать несправедливости, глупости… даже — подлости. Сколько самых ужасных, изуверческих процессов проходят безшумно. Полиция отыскивает убийцу, следователь в спокойной обстановке производит дознание, суд спокойно судит, и убийца получает то наказание, которое он заслужил… Но как только дело касается еврея, — все идет кверху ногами. Спокойствие нарушено. Гевалт гремит по всему миpy. Правда заслонена. Давно ли шумело по всему миру дело Дрейфуса, — из-за него чуть не сражались! Теперь такой же шум пошел из-за Менделя Дреллиса. И уже гибнут люди. Народ жаждет Божьей правды… И евреи везде — в прессе, в науке, в суде искажают эту правду — вот причина ненависти к ним Русских…
— Подписывайте.
— Не подпишу…
Стасский надел шляпу на самые брови и пошел, не прощаясь из номера. В дверях он остановился и, держась за портьеру, зловеще сказал…
— Мы еще встретимся с вами… И в третий раз я буду безпощаден.
И скрылся за дверью.
Под влиянием только что бывшего разговора с ксендзом Адамайтисом, Яков Кронидович вспомнил Ибсеновского "Пеера Гюнта" и страшного мистического «плавильщика» с его мрачным предупреждением:
На третьем перекрестке!.. На третьем перекрестке!
XI
Мистика и правда была… Незримый страшный еврейский бог простер свою руку и, как Oза, коснувшийся ковчега, падали мертвыми все те, кто знал тайну смерти Ванюши Лыщинского.
Не прошло и недели после посещения Стасского, как Яков Кронидович был вызван на вскрытие тел внезапно умерших детей Чапуры — Гани и Фимы. Он вскрывал их в том же анатомическом театре, где вскрывал и Ванюшу, вскрывал вместе с участковым врачем в присутствии чинов полиции и понятых.
Он смотрел на белое, точно мраморное лицо Гани и вспоминал, что Вася передавал ему, что Ганя сказал: — "На суде, под присягой, всю правду покажу". Теперь ничего больше не покажет. Главный свидетель лежал безгласным мертвецом.
— Типичная картина дизентерии, — сказал Яков Кронидович врачу… Микроскопический анализ показывает точную причину смерти. Сомнений быть не может… К погребению…
— Совершенно верно-с, — почтительно проговорил участковый врач, снимая резиновые перчатки. — К сожалению, наука безсильна установить, каким путем попали дизентерийные бациллы в организм детей — естественным, или насильственным.
— Вы подозреваете кого-нибудь?
— Видите ли… Это… конечно, только сплетни… — врач оглянулся на понятых, но те стояли в углу и не могли их слышать. Сторож возился с телами, укладывая их в гробы. — Мне рассказывали в участке. К детям в последнее время ходил прогнанный со службы сыщик Крысинский со своим подручным Подлигайлом. Про мать умерших молва шла, что она торгует крадеными вещами, так знаете, Крысинский думал через нее делать розыски, ну и выслужиться снова перед начальством… Мать их арестовали… все в связи с этим делом… жидовским… Без нее дети заболели желудком. Отец просил Крысинского: — "не ходите, мол, покамест, сами понимать, кажется, должны, дети стесняются вас при такой болезни"… А Крысинский все ходит и все Ганю — врач кивнул на труп мальчика, — пытает, допытывает. И принес пирожные, сказал: — "после поедите". Вот с тех-то пирожных… Ночью… священник был… Исповедал, причастил Ганю и как вышел — в слезах весь… Сказал: — "светлое дитя. Чистая, святая душа"… И стали шептать, знаете, что Ганя-то этот главный свидетель был по жидовскому делу… и что его жиды отравили через этих сыщиков.
— Доказать нельзя, — сказал Яков Кронидович.
— Конечно, конечно… Дизентерийные палочки могли попасть в пирожные самым, так сказать, естественным путем… Дизентерия по городу давно ходит… А все-таки… Не ветром же надуло?
В самом тяжелом настроении духа возвращался в гостиницу Яков Кронидович. "Конечно, и ветром могло надуть", — думал он, — "но Ганя, как Оза, случайно прикоснулся к ковчегу, прикоснулся к еврейской тайне, к их "святому святых", и — пал мертвым. И, помимо воли, — ощущал страх незримого, невидимого возмездия.
В прихожей гостиницы его ожидал Вася Ветютнев.
— Я, дядя, к вам, — едва поздоровавшись, заговорил Ветютнев. — Третьего дня умерли Ганя и Фима Чапуры.
— Я знаю… Я только что вскрывал их тела.
— Их отравили, я знаю это наверняка. Тот самый «подсевайло» Крысинский, который мутит все это дело с самого его начала, отравил их.
— К сожалению, Вася, доказать умышленное отравление бактериями нельзя. Особенно теперь, когда по всему городу ходит дизентерия… Следователь…
Вася перебил его:
— Следователь, дядя… Странный человек! С весны все не мог собраться осмотреть конюшню, где глиняный пол такой же розоватой глины, какая пристала к платью мальчика, наконец, собрался сделать это сегодня. А сегодня….
Вася остановился.
— Ну, что сегодня?
— Да что, — со злобою воскликнул Вася. — Третьего дня, конюшня дотла сгорела.
— С лошадьми?
— Нет, все лошади были на работе.
— Та-ак, — протянул Яков Кронидович и глубоко задумался. Он уже не слушал, что дальше говорил ему Вася, кого он подозревал в поджоге. Его охватило странное, еще никогда им не испытанное чувство безпокойства. Слушая одним ухом Васю, он думал: — "что же это?… таинственный еврейский бог, черные вихри темных неисследованных сил? Просто широко организованный подкуп с целью устранить всех свидетелей этого дела… Последний свидетель — я"…
Когда Вася ушел, Яков Кронидович смотрел на дверь и вспоминал, как, держась за нее, позднею ночью, Стасский грозил ему третьею встречею.
"Совсем Пеер Гюнт", — думал он, — "Но Пеер Гюнт был развратный малый, думающий только о себе и о своих удовольствиях и ему страшен был роковой плавильщик, ожидавший его на "третьем перекрестке", да и то… спасла его святая любовь Сольвейг. Да разве надо быть грешником, чтобы быть раздавленным колесницею еврейского бога? А Озя, простерший руку свою и взявшийся за ковчег, чтобы поддержать его, был же поражен за дерзновение…. Поражены невинные дети Чапупы…. Сгорела конюшня… Так…. при третьей встрече…. на третьем перекрестке… Стасский… У Пеера Гюнта — Сольвейг… У меня?..
И почему-то с отвращением вспомнил письмо — донос Ермократа о листочке мха, приставшем к сапогу во время верховой прогулки с Портосом.
XII
Никогда не нужно возвращаться на то место, где был особенно счастлив. Счастье капризно: оно не сидит на месте.
Валентина Петровна ехала в Захолустный Штаб. Там были ее детство и девичество. Счастливая, невозвратимая пора жизни. Невозвратимая!.. Она родилась в Захолустном Штабе. Она в нем выросла. В институте мечтала о нем — о родителях, о милых друзьях детства. И ей казалось — там небо другое, другой воздух, там особая красота солнца и облаков, и радостно, а не грозно гремит весенний гром. Нигде не могло быть такой красоты природы, как в Захолустном Штабе.