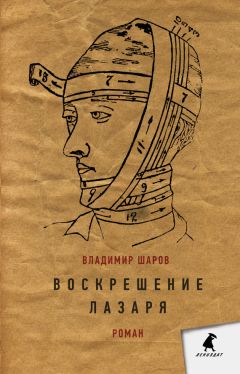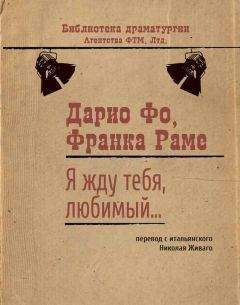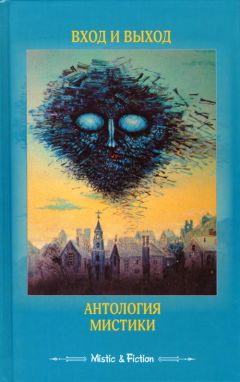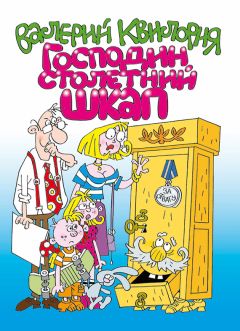Владимир Шаров - Воскрешение Лазаря
Она беспрестанно пыталась что-нибудь придумать, найти выход, а времени оставалось меньше и меньше, время теперь уходило очень быстро, и она уже начала ждать телеграммы из Ленинграда, что свояченицы на свете больше нет вчера, второго, третьего дня она скончалась. Но Катя торопила события, свояченица, слава Богу, пока была жива. По внешности Катя не изменилась, она так же аккуратно, что и прежде, обстирывала лагерное начальство и убиралась в их домах, по-прежнему была со всеми приветлива, но внутри нее беспрерывно работал метроном, день за днем отсчитывая, сколько осталось Костику до полного сиротства и детского дома.
От этого бесконечного тиканья она буквально сходила с ума и, чтобы хоть немного отвлечься, начинала представлять себе, как в последний момент что-то Костика спасает. Например, происходит чудо, метастазы у свояченицы рассасываются и она выздоравливает, или объявляют амнистию по случаю годовщины революции, и ее, Катю, когда свояченица уже при смерти, отпускают. На скором поезде она едет в Ленинград и успевает не только достойно похоронить, но даже с ней попрощаться. А то сам Костик, будто настоящий разведчик, спрятавшись в поезде под лавкой, за чемоданами, добирается до Хельсинки, или он же ночью лесом переходит границу около Куоккалы - там однажды все четверо, Коля, Федя, Ната и она, в 1912 году провели на даче целый месяц. В конце же концов, Костик попадает в Париж, к родителям.
Но, видно, фантазии помогали мало, забывалась она ненадолго, затем снова принимался тикать метроном, и снова она знала, что время идет и идет, а она для Костика, сыночка своего единственного, ничего не сделала. По-видимому, это напряжение она однажды не выдержала и впала в какое-то странное состояние, похожее на полузабытье. Наша с тобой тетка, Аня, говорила мне, что по тому, как Катя рассказывала, что было с ней тогда в лагере, она понимала, что многое она помнит и сама, но ей настолько удивительно, что она так могла себя вести, так говорить, что, рассказывая, она предпочитает ссылаться на других, передавать в их версии. Действительно, истории необычны, хотя Катю в них узнаешь. Перед нами Катя, в которой перебродило то, что она слышала от Феогноста, читала в Колиных письмах, и, конечно, все то, что ее сводило тогда с ума.
Незадолго до описываемых событий в лагерной больнице сменился врач, нового звали Марк Соломонович Фейгин. Фейгин был добрый, порядочный человек, и Катя, как и с его предшественником, с ним быстро сдружилась. Последний факт важен, потому что Катя еще с тех пор, когда работала в больнице санитаркой, здесь же и ночевала. В палате для выздоравливающих у нее была своя койка. И вот однажды во время обхода Фейгин видит, что с Катей плохо. Лежа на кровати, она буквально корчится от боли. Он подходит, садится рядом на табурет, кладет на ее живот руку. Живот острый, и колики настолько сильные, что Катя то делается совсем белой, то, наоборот, покрывается испариной. Ощущение, что еще чуть-чуть - и она отдаст Богу душу. Постепенно ее немного отпускает. Прощупывание живота Фейгин пока не закончил, но склоняется к тому, что ничего страшного нет, и говорит: "Что с вами, тетя Катя, уж не грибками ли объелись?". Тяжело вздыхая, Катя отвечает: "Это, Марк Соломоныч, не грибки, беременная я". Фейгин удивляется: "Как же вы, тетя Катя, беременная, когда давеча говорили мне, что девушка, что Христова невеста. Хоть и не в монастыре жили, чистая в гроб ляжете". - "То вчера было, Марк Соломоныч, - отвечает Катя, - а сегодня, поди, я уже на сносях, вот-вот рожу. Вишь, как они во мне дерутся, так и норовят друг дружку прикончить, все равно, будто Каин с Авелем". - "Кто ж там дерется", - спрашивает Фейгин. "А то не знаешь, кто: христиане да евреи твои. Не поделили, кто Богу милее, чью жертву Он принял, а чью нет, - отвечает Катя и задумчиво добавляет, - и зачем мне все это?"
У той же истории был другой вариант. На вопрос Фейгина, чего не поделили в ее утробе евреи и христиане, Катя отвечает: "Да были у Господа евреи, а Ему что-то мало показалось, вот Он из камней других Себе сынов Авраамовых и наделал. Но прежние новых не признали, говорят: и не евреи они вовсе. Теперь дерутся, а мне мука".
Следующая история. Фейгина зовут в палату, по которой из угла в угол во весь дух, будто хлыстовка, бегает Катя, и унять ее никак не получается. Фейгин громко спрашивает: "Что здесь происходит?" - и Катя, все так же на бегу, охотно ему объясняет: "Да это не я, это брат мой, Феогност, в юродивые побежал". - "Почему?" - удивляется Фейгин. "Да как же, - отвечает, вконец запыхавшаяся Катя, - чекистов попужался и побежал, а до него брат его Коля тоже чекистов попужался и во Владивосток побежал". Подобных рассказов насчитывалось десятка полтора, и они были приступом, подготовкой к главному.
В километре от лагеря протекала чистая горная речушка, называвшаяся Симонов ручей, в ней с мостков Катя и стирала белье. Там же, на берегу была очень красивая березовая роща, а рядом молоденький ельничек, в августе, после дождя, если успеть сюда первым, за полчаса можно было набрать пару корзинок отличных боровиков. В наследство от матери Кате достались три старые, чуть ли не византийского письма иконы: Девы Марии, Ильи Пророка и Николая Угодника. Катя очень ими дорожила, везде возила с собой и, если получалось, каждый вечер перед ними молилась. После ее ареста в Ленинградской квартире, где она жила вместе с Костиком, был обыск и образа пропали.
Об этой потере Катя долго сокрушалась, и уже здесь, на Алтае, ее приятельница, жена священника, подарила ей три других образка, тоже Девы Марии, Ильи Пророка, и Николая Угодника, правда, совсем простеньких, бумажных. И вот прежде чем идти относить чистое белье, Катя на одну из елочек, словно украшая ее к Рождеству, вешала свои иконки, и, встав на колени, начинала молиться. Очевидно, по примеру Феогноста, Катя с тех пор, как узнала, что свояченица смертельно больна и жить ей осталось месяцы, снова, как и в Ленинграде, молилась вслух, но отдавала ли она себе в этом отчет - неизвестно. К святым покровителям она обращалась довольно громко, и скоро и в деревне, и в поселке вольнонаемных, и даже в лагере о ее молитвах сделалось хорошо известно. На зоне о них немало судачили.
У Кати давно было ощущение, что просить Бога больше ни о чем не надо, Он обо всем знает, если же не помогает ни ей, ни другим, значит, на то есть причина. Обращаться надо не к Нему и не о том. Так что Богу Катя молилась редко. Она говорила Деве Марии: "Матерь Божья, у меня приговор восемь лет лагерей, а в Ленинграде ребеночек, Костик, разве он без меня столько выживет? Восемь лет - это чересчур много, я не согласна. Матерь Божья, Дева Мария, миленькая, сколько я тебя целовала, сколько акафистов прочла и свечек поставила: что тебе стоит, возьми себе два года, и мне меньше будет". То же самое она день за днем говорила святому Угодничку Божьему Николаю и Пророку Илье.
И вот, незадолго перед тем, как со дня Катиного ареста должно было минуть два года, утром к ней в палату вбегает женщина, крича: "Катя, Катя, иди скорее в контору, тебя освобождают!". Катя ничего не понимает, потому что не подавала заявлений ни о пересмотре дела, ни о досрочном освобождении, ни о помиловании. Но в конторе оказывается, что все точно, срок ее вправду сокращен до двух лет. Причем Кате выдают настоящий паспорт даже без минуса, и она прямо сейчас может свободно вернуться к Костику в Ленинград. Через день она уезжает и, как и мечтала, успевает застать свояченицу живой.
Когда наша тетка, Аня, рассказывала мне про Катин лагерь, я ее спросил: история, конечно, во всех смыслах замечательная, но разве она имеет отношение к Феогносту? Чудо-то совершено ради Кати и Костика. А тетка ответила: "Я Кате задала тот же вопрос, и она мне сказала вот что: "И я так думала, что ради меня и Костика. Но ведь Костика я не уберегла. Эвакуироваться из Ленинграда мы не успели, и в 1942 году, в декабре, я его схоронила. А в 1946-м поехала в Семипалатинск, Феогност там отбывал ссылку, и первое, что он мне сказал, когда мы с вокзала пришли домой: спасибо, что ничего не расплескала, в целости довезла. Я сначала не поняла, о чем он, потому что, что со мной было в лагере, ни ему, вообще никому не писала. Он, очевидно, заметил, что я смутилась, и пояснил: я об Алтае". Скоро у него, говорила Катя тетке, и вправду все наладилось - что он просил, Бог ему дал.
Аня, милая моя девочка, я тебе не писал почти месяц, был болен, температурил и из своей сторожки не выходил. Почти не был и на могиле отца. Сейчас я уже здоров, только ослаб, хожу, а ноги заплетаются. Но это не беда, на свежем воздухе приду в себя быстро. Вдобавок не за горами весна, будет на чем погреться. За месяц, что сидел дома, я прилично продвинулся. Очень удобно, когда материалы под рукой и не надо высунув язык бегать за ними по городу. У меня немало новостей, касающихся и Кати, и Наты, и Феогноста с Колей, да и не только их - увидишь сама. В письме, что я послал прямо перед болезнью, было, что Феогност не без помощи Кати стал наконец тем юродивым, каким застал его и я. Не знаю, устроило ли изложение событий мою дочь, я старался, но не забывай: три четверти - не из первых рук, а пересказ Кати тетке, тетки - мне, а мною уже тебе. Каждый, конечно, привнес свое, подгонял к картинке, которая казалась ему правильной. Все мы и всегда пристрастны, что с нас возьмешь?