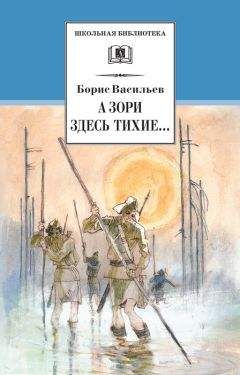Борис Зайцев - Том 1. Тихие зори
Никандр шел лениво. Небо бледнело. Скоро должен был прийти рассвет, но этот приход казался безразличным. Мутный, усталый, взор не отдыхал.
На углу проспекта к нему подошла худая, черная девушка.
– Пойдем ко мне, Коля!
– Пойдем!
Теперь он был Колей, а она Маней. Он равнодушно слушал, что она говорила. Про каких-то пьяных гостей, которые не уважают и бьют бедных девушек. Никандр посочувствовал. У ворот дома слезли с извозчика. Впустил сонный дворник.
– Дай ему потом пятиалтынный.
Это запомнилось: на обратном пути дать пятиалтынный.
В комнате Мани пахло сыростью, висели бумажные цветы. На кровати красное шелковое одеяло.
– Выпьем!
Маня бледна. От холода, шлянья у ней под глазами круги.
Сидя у него на коленях, хлопая стаканчиками мадеру, она рассказывает вечные истории «девиц»: о детстве, первой любви, обмане, горестях своих. О каком-то «Сашке», который сошелся теперь с другой. Никандр тоже пьет, и вдруг ему кажется, что сейчас она его зарежет этим ножом для яблок.
– Ты можешь человека убить? – спрашивает он. Маня смотрит пьяными глазами и не понимает.
– Пойдем, Коля, ляжем!
– Нет, постой. Ты умеешь по карнизам ходить?
– Коля, я не понимаю. Пойдем, ляжем! Ты, может, думаешь что? Я с тобой останусь.
– Нет. – Никандр упрям, бледнеет. – Я тебя спрашиваю, ты умеешь лазить по стенам?
Он снял обувь и пиджак и, стараясь изобразить тигра или дикую кошку, на четвереньках, легко и бесшумно делает круги вдоль стен комнаты. Где можно, идет по краю кровати, комода.
Маня болтает ногой.
– Ну, ходи, ходи! Вовсе и не страшно, ничего особенного. Неделю назад гость спьяну резать себя стал, и то я не испугалась.
Папироска в зубах и равнодушный вид указывают, что уже много такого и в этом роде видано в этой комнате. Действительно, не удивишь.
Сделав несколько туров, Никандр ложится, в поту.
Ну вот, только зря мучился.
Дальше все идет как надо. Минутами теряется сознание, минутами злей душит что-то. Сколько времени прошло? Сказать трудно. Но вот туманная заря, тонкая, больная. Запотели окна. Маня спит нездорово, подергиваясь. Теперь она еще худей.
Надо идти. Куда-то надо уходить, все идти, но никуда не приходить.
– Оставайся, Коля! Куда так рано?
– Пора.
– Ну, прощай, если не хочешь.
Она бежит босиком проводить его до двери. По дороге выхватывает из стакана розу, приколола ему.
– Слушай, Коля, заходи! Пожалуйста!
Он обещает. Не все ли равно. Конечно, никогда больше ее не увидит. Но можно и пообещать. Кто такая она? Тысячи таких Мань, все они уходят одна за другой, чтобы навсегда сгинуть. Чем эта лучше других?
На улице, в рассвете, он снимает розу. Хорошая роза. О чем такое вспомнилось? Нет, нельзя никак представить. Мелькнуло, и нет. Главное – ехать.
– Извозчик!
Резинки мягки и шумят чуть-чуть. Какое утро! Почему такая чудесная роза оказалась у Насти! Нет, она не Настя, ее зовут Лена. Раньше она была его жена, а теперь поступила на новое место. Впрочем, это все чепуха. А вот какой-то мост. Необыкновенно широкая река. Раньше не замечал. Половодье! Ровная, как могучая женщина. Течет упруго и немного шипит. Это льдинки.
А с востока вылезло солнце, проложило по воде широкие огненные дороги.
Шипение льда, холод, роза.
Никандр слез с извозчика.
– Поезжай, братец. Я того… пешком.
Извозчик отъехал.
Ах, какая славная река! И несет, и несет; если опереться на перила, смотреть вниз, то кажется, во-первых, что летишь. И второе, – там где-то очень в глуби есть ее сердце… милое, большое речное сердце.
Крутит, крутит, соединяет водяные косы, расплетает, точно идет ворожба на воде. А, вот это кто! Стало ясно, водовороты замолкли наконец, это то, что надо.
Никандр улыбнулся. Пусть! Значит, так надо. Чувство свободы, светлой тишины нашло на него. Отдых, отдых!
Он поднял правую ногу, налег грудью на перила и медленно полез.
Пять минут спустя городовой держал его за шиворот.
– Еще куда? Или совсем одурел?
Городовой был возмущен. Подходили любопытные. Что-то говорили. Одним было смешно, другие ругались. Городовой жарко рассказывал: «Как я, значит, стою, и вдруг это вижу, – неизвестный за перила шасть. Я его за загривок, разумеется…»
– Ну, народ!
– Эх, парень, парень! Никандр слушает равнодушно.
XVИюнь, жаркий вечер. Трудно дышать, солнце прощально горит в стеклах, тучкой вьются в небе голуби, розовея. При закате туманно-пыльный полог оденет все. Людьми овладеет раздумье. В квартирах голо, одинокие жильцы виснут на окнах. Уйти некуда. Бульвары пыльны. Время летней тоски города.
Подперев голову, сидит на скамеечке, на тротуаре Никандр. Рядом открыта парадная дверь. Теперь лето, большинство жильцов разъехалось; работы меньше; но уходить все же нельзя. Да и куда идти, зачем?
По тротуару, напротив, шагает Павел Захарыч.
Он со свертком, видимо несет заказ.
– Далеко шествуете? Портной оборачивается.
– А, вот это кто! Давно не виделись. Здравствуйте.
– Садитесь, Захарыч, замучились, верно.
– Тепло-с.
– Даже очень.
Отирая пот, Павел Захарыч садится. Он будто смущен немного. После истории с рекой он видит Никандра впервые и не знает, как держаться.
– Ну, вот, Павел Захарыч, опять вы у меня в гостях. Время-то идет, не замечаешь.
Никандр улыбается.
– А вы будто устали, Никандр Иваныч?
– Нет, ничего. Теперь меньше работы. И жена помогает.
– Жена?
– Да, жена. Помните, что вы мне сказали? Я принял ее.
Павел Захарыч посмотрел на него.
– Помню-с. Очень хорошо помню. Что же, дай вам Бог счастья, Никандр Иваныч.
– Счастья?
Никандр опять улыбнулся.
– Этого дела вовсе нигде нет, незачем и говорить.
– Ах, Боже мой, Боже мой! – вздохнул Павел Захарыч. – Как это вам тогда… угораздило? Насчет потопления?
– Может, и вернее было б. Да что – было, теперь нет. Все опять по-старому. Даже забывать стал. Видите, каморка моя, телефон, жена… Все налаженное.
– Жильцы-то теперь другие?
– Бог с ними! Сколько ни меняй, все как один.
– Это верно. Так же у меня заказчики. Помолчали.
– Ведь и вы, небось, Павел Захарыч, – по-прежнему? Пошумите в кабаке, помудрствуете… а потом – к себе в угол?
Павел Захарыч не ответил. Он сидел, будто соображая.
– Что же делать, Никандр Иваныч, не мы одни. Намедни я читал Библию. Я иногда ее читаю. И там, в Екклезиасте, царь Соломон говорит: «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Вот как выражено!
– Это сказано важно.
– Значит же, большая тоска взяла его. А ведь кто был?! Подумать только: царь Соломон!
Павел Захарыч покачал головой.
– Однако прощайте. Заболтался с вами.
Они расстались.
Скоро Лена позвала Никандра ужинать. Как всегда, за столом они молчали. Потом легли спать. Началась летняя ночь. Хотя жильцов возвращалось мало, Никандр долго не мог заснуть. Ему вспомнилось утро, река, Мариэтт. Ее образ, привидевшийся тогда в воде. Он знал – в последний, в предпоследний раз он ее вспоминает. Пройдет месяц, два, год – ничего не вызовет она в нем. Это было больно, но неминуче. Как неминуче будет он вставать, ложиться, делать дело, годами делаемое всеми.
«И возвращается ветер, – вспомнил он, – на круги свои».
Перед утром он, наконец, забылся.
1909
Смерть*
Когда в комнате выставили рамы, и Павел Антоныч вдохнул апрельский воздух, увидел бледное небо, воробьев, слабую зелень в садике, он понял, что это его последняя весна. Мысль о конце не испугала его; она только яснее определила его положение. Он улыбнулся жене.
– Какой воздух! Как хорошо! Ты доставила мне большое удовольствие.
– Не холодно? – Теперь во всех словах и мыслях Надежды Васильевны было одно: как бы не повредить Павлу Антонычу, как бы помочь.
– Нет. – Он вздохнул глубоко. – Легче. Дышать свободнее.
Надежда Васильевна поцеловала его в лоб и вышла. Целый день он был покоен, молчал, не задыхался. Все время смотрел в садик и к вечеру попросил посыпать на балконе зерен для воробьев. При этом снова улыбнулся:
– Весело на них смотреть.
Следующий день и вся неделя прошли спокойно. Казалось даже, что зловещие отеки уменьшаются. Но сам Павел Антоныч изменился. Он часами глядел на воробьев, не читал, и в его глазах, к которым так привыкла Надежда Васильевна, она видела упорные, тайные мысли.
– Павел Антоныч, – спросила она раз, – о чем ты думаешь? Отчего ты мне ничего не скажешь?
– О чем думаю?
Он засмеялся.