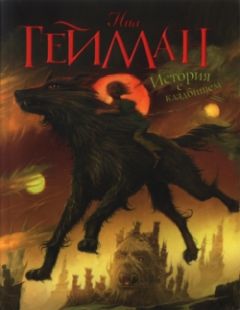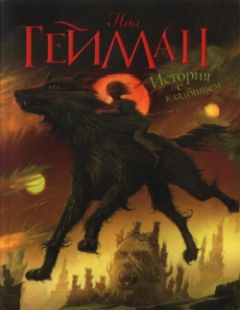Афанасий Фет - Проза поэта
— Все так-то, — с озлоблением прошипела жена. — Люди кто полотенцем, кто тряпкой подвязали уши, а ты так.
— Точно, что поднес он мне три стаканчика…
— Много ли у вас земли-то на душу?
— По одной десятинке всего.
— Что ж, навозите вы ее?
— Конопляники-то нешто. А в поле кто ее навозит? Жеребий у нас. Так она это пресная и живет.
— А много ли у вас работников в семье?
— Да вот все тут, — прошипела жена, отчаянно махнув вокруг себя вязаньем. — Что ж ты нейдешь картошку-то пахать? — сердито обратилась она к мужу. — Глянь-ка на печку-то — сколько их. А ведь они есть просят.
— Не пойду, — решительно отвечал мужик, обеими руками натягивая шапку на голову.
Присоединив свой голос к убеждениям жены, я успел склонить крестьянина допахать картофель. Ему поэтому надо было идти запрягать лошадь, а я воспользовался случаем вырваться на свежий воздух. Улица уже успела оживиться. Мальчишки старались гнать лошадей в поле, но лошади, пробежав несколько шагов, поворачивали назад и со всех ног неслись ко дворам. К брани и крикам мальчишек присоединялся лай собак. Экипажа посредника все еще не было видно, и я решился от скуки идти к нему навстречу, взяв в провожатые от собак какого-нибудь мальчика. Скоро у меня явилось два таких провожатых, и когда мы с ними стали выходить за деревню, у нас уже завязался разговор. Не приводя его содержания, скажем только, что в первый раз мы услыхали слово пазубник вместо лесная земляника, и слово это нам понравилось. Наконец вдали на пригорке показался экипаж посредника. Юные спутники, в которых уже не было надобности, получив по грошу, ушли, довольные судьбой. Желая как можно скорее сесть в экипаж, я пошел к нему навстречу. Только тут весь образ только что виденной мною бедности представился мне во всей своей беспомощности, со всеми очевидными причинами такого явления. Вот, подумал я, та стена, в которую упрется общинное владение землей, но в ту же минуту меня поразила другая мысль: Боже мой, неужели я до такой степени литератор, что за наблюдениями да соображениями потерял всякую способность действовать! Эта несчастная белая Юлия Пастрана должна на днях разрешиться от бремени при таких условиях, где малейшая денежная помощь значительно облегчит ее участь.
— Извините, — сказал подъехавший посредник, — опоздал, задержали, нам надо торопиться… — Тем не менее я упросил посредника остановиться на минуту около знакомой мне избы. Я инстинктивно побежал не в избу, а на огород, и не ошибся: натянутая на брови шапка подпахивала картофель, а простуженная вязальщица, несмотря на свое положение, согнувшись, подбирала плоды в коробку.
Цыгане
Лет пять тому назад лесами Калужской губернии возвращались мы с приятелем в половине июля с тетеревиной охоты. Кто не способен самобытно подмечать и вкушать красоты природы, а между тем желал бы понять всю прелесть русских сосновых лесов, с их пустынно строгим видом, раздражительным смолянистым ароматом, тишиной, вызывающей на раздумье, и какою-то замогильной тайной, тому советуем перечесть мастерской рассказ Тургенева «Лес и степь». Кому и это не поможет, тому остается видеть в сосновых лесах залог будущих дров. Во всю станцию нам приходилось ехать почти сплошным лесом, изредка перерываемым большими полянами, заросшими молодым березником, ивняком да живописно изуродованными дикими яблонями и грушами. По этим более открытым и черноземным местам можно было ехать резвее, но, как только дорога снова уходила под густой навес сосен и елей, духота становилась невыносима, и добрая тройка шагом тащила легкий охотничий тарантас. В одном месте лес перерезает неширокая долина, оставленная весенним разливом безымянной речки. Несмотря на слабое во время летних жаров течение своих из-под вековых корней пробирающихся студеных вод, речка эта то извивалась по дну оврага, то раскидывалась небольшими озерцами, совершенно изменяя своею живительною влагою однообразно-строгий вид полесья. Место это давно памятно нам по своей самобытной красоте. На пути в полесье приходится спускаться к нему по широкой, извилистой и сумрачной сосновой аллее, и некрутой спуск этот посреди какой-то торжественности сводит вас по белому рассыпчатому песку к сочно зеленеющей долине. Зато на обратном пути из полесья, к плохому мостику, перекинутому через речку, приходится довольно круто спускаться по безыскусственной дороге, проложенной по оврагу, образованному вешними водами. Справа и слева обнаженные корни, как пальцы гигантов, впиваются в глинистый грунт, из которого то там, то сям пробивают ключи. Все это живописно, но ехать по неровной дороге, местами разгрязненной и перепутанной обнаженными корнями, очень неприятно. Зато вид, открывающийся при спуске с этого природного амфитеатра, прелестен и оригинален.
— Ведь вот, — заметил мой товарищ, как бы отвечая на занимавшую меня мысль, — нарисуй художник все, что мы видим с вами в настоящую минуту с этого пригорка, скажут: изысканно придумано для эффекта, — а перед нами самый обыкновенный лесной ландшафт. Тем не менее в нем есть что-то театральное и декоративное. Из-за строгой темной рамки соснового бора еще жарче кажется безоблачное небо, освещающее картину. Посмотрите, как живописен на первом плане этот гнилой мостик, на котором одна из наших пристяжных, пожалуй, провалится. Как хороши направо от него эти извивы речки, а налево озеро с ярко-зеленым и широколиственным камышом. Все ярко и зелено, но через несколько сажен эта отрадная яркость переходит в ослепительную белизну сыпучих песков, как бы нарочно для того, чтобы мало-помалу меркнуть под темными сводами гигантской аллеи и при крутом ее повороте окончательно померкнуть. Право, недостает, чтобы из этого поворота показался хор друидов или иной фантастический кортеж, — мы могли бы забыть, что мы в лесу, а не на театре.
Когда тарантас застучал по мосту, стая диких уток с криком поднялась из камышей и закрутилась над долиной. Предсказание моего товарища не сбылось: ни одна лошадь, слава Богу, не провалилась; зато фантазия его осуществилась вполне. Не успели мы очнуться от сильного толчка последней мостовины, как из сумрака лежащей перед нами просеки, точно из-за кулис, показался громоздкий воз парою и стал понемногу подвигаться к нам навстречу, подаваясь с каждым шагом все более и более вперед на освещенный солнцем песок. Следом за ним показалась еще подвода, третья, четвертая — словом, целый кортеж. На ворохах всякого рода пожитков сидели женщины в живописно перекинутых через плечо шалях, между которыми преобладал красный цвет. Черные локоны, вырываясь с дикою силой из-под пестрых платков, повязанных какими-то причудливыми тюрбанами, придавали женским лицам на известном расстоянии какую-то матовую бледность и мягкость. Изо всего этого выцветали черные большие глаза, под бровями изящнейшего рисунка.
— Цыгане! цыгане! — воскликнули мы оба в одно время. — Какое оригинальное, красивое племя, — заметил мой спутник. — Ведь вот теперь вблизи черты лиц этих женщин, как у большей части дочерей юга, оказываются грубоваты, но напрасно наши европейские женщины стараются искусственным образом воспроизвести эту матовую пушистость кожи, которая никогда не достигается в новейших мраморах и так очаровательна в антиках.
— Странное дело, — заметил я в свою очередь, — что у нас, где цыгане еще вполне сохранили свой оригинальный тип и где поэтическая их сторона возбуждает так много сочувствия, ни один писатель, ни один живописец не воспользовался неисчерпаемым богатством этого загадочного, исполненного самых вопиющих противоречий типа?
— А Пушкин?
— Вы правы. В его мастерской поэме даже все несообразности типа намечены довольно верно, но целое слишком идеально. Мне бы хотелось встретить в искусстве не цыган, повествующих об Овидии, а просто вот этих самых, которые для художника клад, но, надо сказать правду, клад, трудно дающийся в руки. Вы знаете мое благоговение перед Пушкиным, но amicus Plato, sed magis («Платон мне друг, но истина…» (лат.)) и т. д., и, мне кажется, художнику надо подъехать к цыганам с другого конца. По-моему, тон небольшого стихотворения Полежаева «Цыганка» — ближе к правде. Как красив и в сущности верен, например, куплет:
Под узлами бедной шали
Ты не скроешь от меня
Ненавистницу печали,
Друга радостного дня.
Въехав в сыпучий песок просеки, мы должны были подвигаться шагом. За последнею миновавшею нас цыганскою телегой бежало двое или трое кудрявых и полунагих цыганят. Разумеется, что, поравнявшись с тарантасом, они повернули к нам и стали бойко заглядывать в лицо, прося милостыни своими звонкими, свежими голосами, подернутыми тем же легким матом, которым отливали их загорелые детские щеки. Один из детей, мальчик лет девяти, в последних лохмотьях рубашки, до того поражал своею цветущею красотой, что при нем на других нельзя было обратить внимания. Весь бронзовый и стройный, как неаполитанский Меркурий, он скорее летел, чем шел, так легки и огненны были его малейшие движения. Что за головка! что за глаза! Товарищ мой достал мелкую монету и передал ее мне, так как мальчик бежал с моей стороны. Не успела еще брошенная мною монета упасть на песок, как мальчик одним движением успел уже, с энергически раскинутыми руками, на мгновение застыть перед нами, как это делают балетщики, кончив трудный пируэт. Надо было видеть оживленную позу мальчика, веселье, каким разгорелись его глаза и лицо, чтобы никогда уже не забыть этого момента. «Барин! поплясать?!!» Было что-то убедительное в этом вопросе. Я взглянул на подателя милостыни. «Не надо», — как-то робко сорвалось у него с языка. Цыганенок опустил раскинутые руки, и кожаный верх движущегося экипажа закрыл от нас его прелестный образ.