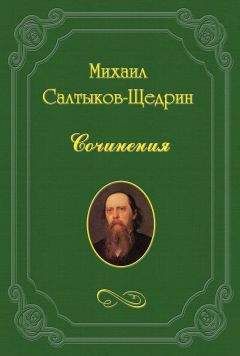Ирина Ратушинская - Серый - цвет надежды
- Какой же?
- Вчера в ШИЗО посадили Ядвигу Беляускене. Она инвалид, пожилая женщина. Если вам так уж необходимо кого-то мучить - давайте мы отсидим, кроме своих, ее сутки ШИЗО. А ее отпустите. Хотите - напишем заявление прямо на адрес КГБ?
- Это вне моей компетенции. КГБ не занимается вопросами ШИЗО.
- Поэтому вы сидите сейчас здесь, в этом здании? Тогда нам не о чем говорить.
И сколько ни пыхтел Тюрин - диалога у него с нами не вышло. Однако мы возвращались в камеру с четким ощущением: в нашей забастовке и заварухе вокруг этого произошел какой-то перелом. Видимо, огласка слишком велика, и надо им решать, что с нами делать. Если не уступим мы - придется уступить им. Мы видели уже их неуверенность и по деланно-грозному тону, и по тому, что угрозы стали повторяться - кроме пожизненного заключения да того, что сгноят в ШИЗО, пугать нас было нечем. Ну еще чуть-чуть дожать - и сдадутся наши палачи!
А теперь, пока мы сидим вчетвером в ШИЗО и пани Ядвига рассказывает нам грустную историю литовского князя Ягайлы, оставшиеся в зоне пишут заявления - с тем же текстом, что мы выдали Тюрину. Или пусть пани Ядвигу вернут в зону (они готовы отсидеть за нее), или они объявляют голодовку. Кто на сколько может - сил-то у всех осталось немного. Галя и пани Лида однодневную. Наташа - трехдневную, Оля - до возвращения пани Ядвиги. Наша почти одинаковая реакция уже вряд ли кого-то удивила: таков был дух нашей зоны, и странно было бы ожидать другого. Наташа вышла из больницы только накануне этой истории, на этот раз - с пятью диагнозами и назначенным лечением. Галя имела свое горе - еще в ноябре ее мужа перевезли из пермского лагеря неизвестно куда. Сообщили об этом в письме друзья, но в таких осторожных выражениях (чтоб прошло цензуру), что Галя испугалась, жив ли Василий вообще. Общими усилиями расшифровали сложную систему обиняков получалось, что жив, но непонятно где. Больше месяца Галя вела переписку со всеми инстанциями, выясняя, куда дели ее мужа. За этот месяц у нее удвоилась седина. Наконец пришел ответ, что взяли его на новое следствие. Нельзя сказать, чтоб это обнадежило или успокоило.
Оля все переживала за родителей - добавленный ей второй срок был прежде всего ударом по ним. Не давал ей покоя и ее нагрудный знак. Приехав в нашу зону, она решила его носить, как носила предыдущие три года. Мы, прояснив ей свою позицию, в дальнейшее не вмешивались - пусть сама решает. Вот ведь носит же пани Лида, и никак ей это не осложняет жизнь. Но Оля так не могла. Снова и снова она затевала дискуссии на эту тему, искала доказательств либо нашей, либо своей правоты. И тут уж мы ничем не могли ей помочь - такие вещи человек должен решать за себя сам, и только сделанный по внутреннему убеждению поступок придает человеку стойкость. Отказалась Оля от нагрудного знака позже, почти одновременно с пани Лидой - когда обе самостоятельно решили, что это будет правильно. А пока, имея свои горести и сложности, все эти измученные женщины поднялись на защиту пани Ядвиги. Это, наверное, единственный способ быть человеком в лагере - принимать чужую боль ближе к сердцу, чем свою. Такие вещи ни для кого из нас не были героизмом, уж скорее актом самосохранения. Потеряв эту способность, человек терял все, и нам очень скоро предстояло в этом убедиться.
А тем временем мы вчетвером грелись друг о друга, таскали полотенца из своих вещей и подматывали одна другую, слушали краткий курс истории Литвы, а иногда просто дурачились и веселились. Однажды вечером заявилась дежурнячка:
- Женщины, в баню!
Завела нас, проследила, пока разденемся, виртуозно "не заметила" всего нашего незаконного утепления и тихонько сказала:
- Слыхали? Андропов-то помер!
И загромыхала замком, запирая дверь. Тут-то на нас и нашло: пани Ядвига, в чем была, пустилась в пляс, мы плескались водой и кто во что горазд - радовались событию. Теперь, вспоминая тот вечер, ничего греховного в нашей радости я, как и тогда, не нахожу. Андропов, возглавлявший ранее советский КГБ, лично руководивший подавлением Венгрии в 56-м году, а потом дорвавшийся до высшей власти в государстве - был, безусловно, самой мрачной фигурой после Сталина. И облавы в магазинах и кинотеатрах, и участившиеся аресты, и окончательно осатаневшие, как с цепи спущенные гебисты - все это была андроповщина, и вот теперь она кончилась! С Андроповым теперь пусть разбирается Господь, а над людьми он достаточно уже потешился - и не пить ему больше ничьей крови: ни венгерской, ни русской, ни литовской. Нет, мы не строили иллюзий насчет будущего, неизвестного нам пока главы государства; когда народу объявят, кто следующий, - следующий тоже окажется никак не безгрешным младенцем, а старым коммунистом. Но кто бы он ни был - такого экземпляра, как Андропов, просто второго не найдут. Вряд ли у кого-нибудь из нашего кремлевского "дома престарелых" окажется такая буйная личная инициатива. Пока мы окатывали друг друга из шаек водой и наперебой вспоминали анекдоты про Андропова - целую фольклорную серию, - этапом ехала к нам в зону эстонка Лагле Парек, последняя из "андроповского набора". Ее в тот вечер разбудило дружное "ура" всего "Столыпина".
Зэки в восторге качали вагон, конвойные скалились (для них андроповская смерть тоже была отнюдь не потеря), и все приставали к Лагле:
- Ты политическая, ты-то должна знать, кто следующий!
Кто следующий, Лагле, разумеется, не знала. Откуда ж ей было угадать, кого вытолкнет наружу тихое, но яростное пихание локтями кремлевских "вождей"? Они и сами вряд ли это знали до последнего момента. А назавтра уже в очередях, в переполненных автобусах, в коммунальных конурах переходил от одного к другому новый анекдот:
"В феврале 1984 года, после долгой и продолжительной болезни, в возрасте 71 года, не приходя в сознание, советское государство возглавил Константин Устинович Черненко!"
Вернувшись из ШИЗО, мы с Таней тоже подключились к голодовке в защиту пани Ядвиги. Уж не знаю, подействовали ли наши протесты или администрация хотела уменьшить количество бастующих, - но только в тот же февраль медицинская комиссия признала пани Ядвигу и пани Лиду инвалидами второй группы, а Наташу - третьей. Фактически это означало, что обе наши пани работать теперь не обязаны - лагерь не мог обеспечить работой инвалидов второй группы, и Василий Петрович, ликуя, вычеркнул их обеих из списка. Мы вздохнули с облегчением - теперь хоть пожилых за забастовку не будут таскать по карцерам. А Наташе, когда забастовка кончится, все же будет полегче на сниженной норме.
Приехала Лагле - веселая светловолосая женщина, со сроком шесть плюс пять. Она и ее друзья издавали в Эстонии самиздатский журнал - вполне достаточно для такого срока. Ее неунывающий характер пришелся впору нашей зоне, а спокойная и твердая позиция - ох, как не по вкусу КГБ. Этап этот для нее был не первый. За плечами у нее была "эстонская ссылка". После войны эстонцев тысячами грузили в товарные вагоны и отправляли в Сибирь. Маленький мужественный народ, имевший опыт демократического самоуправления, ни на что другое при Сталине рассчитывать и не мог. Прокатилась эта расправа и через семью Лагле: отца расстреляли, мать отправили в лагерь, а бабушку с двумя внучками погрузили в эшелон. Лагле было тогда шесть лет. Они с сестрой даже не понимали, что происходит. О судьбе родителей они еще не знали, а поспешные сборы, перевернутая вверх дном квартира и перспектива путешествия - все это их скорее забавляло. И, уезжая из дома на грузовике, девочки смеялись, а мудрая бабушка не мешала детям веселиться: горя им еще хватит. Этот неожиданный ребячий смех посреди всеобщего разорения произвел такое впечатление на соседей, что они решили - старшая девочка сошла с ума! И так и сообщили вернувшейся через годы из лагеря матери Лагле. Слава Богу, она не поверила.
Бабушка тем временем умудрилась довезти обеих девочек до Сибири живыми, и, стоя по колено в снегу, они с другими эстонцами выслушали правительственный указ - "вечная ссылка". И навсегда запомнила Лагле улыбку бабушки:
- Они думают, что распоряжаются вечностью?
После смерти Сталина сосланная Прибалтика, хоть и не сразу, но возвращалась домой. Вернулись и Лагле, и бабушка, и старшая сестра. Позади остались русская школа, сибирские козы, которых Лагле пасла вместе с другими ребятишками, холод, вши и грязь. Но до самого андроповского времени, до своего ареста, Лагле не знала ничего достоверного о судьбе отца: приговор о расстреле она увидела только на своем следствии. И раньше было ясно, что убили, но когда? За что? Объяснять эти детали осиротевшим семьям советская власть считала излишним.
Нагрудный знак Лагле не надела, но до поры до времени администрация ее не трогала - им хватало забот с нашей забастовкой. А мы теперь научились здороваться еще и по-эстонски. И если я еще когда-нибудь увижу Лагле, то скажу ей, как в лагере: "Тере!"
А она ответит: "Привет!"