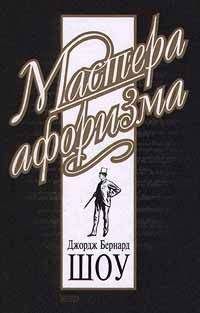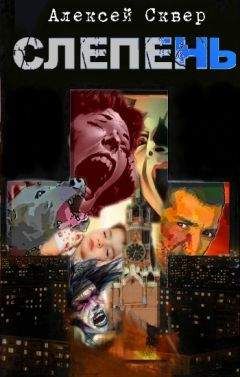Владимир Набоков - Второе добавление к "Дару"
Вот она, вот, эта картинная галерея гениальной русской природы, великолепная синева черного «кавалера», вместе с тигром дающего тропический привкус дальневосточной фауне; оранжевые кончики, почти по моде африканских пьерид, опрятной и стройной «пираты», красы весенних степей; огненный шелк романовской «ольги», столь быстрокрылой, что за ней не угнаться джигиту; мозаика и смуглота «брентиды» с Xайпудырской губы; небесно-наивные волжские голубянки… Развернутая копия так близка к замкнутому оригиналу, что даже случайные недостатки внешности или расправки тут повторены, и меня, которому искусственные оборвыши Зайтца так противны, особенно пленяет точный портрет бесценного, донельзя рваного и потертого, единственного экземпляра "годуновской эребии", когда-либо найденного на Земле, "в густом бору, июля восьмого числа, 1903 года, — цитует отец из письма к нему Мольтреxта, — в душный зной на двадцать девятой версте по старой аимской дороге".
А прелесть замечательных аберраций, встреченных только в пределах России, «копченый» парусник (авиновский "люцифер") или «пафия» со сплошным расплывом жемчужности… А орловская раса тополевой "лименитии"!.. А кружево «суваровской» меланаргии… "Le glorieux chef-d'?uvre du grand maitre des lepidopt<erologues>"[29], — восклицает Шарль Обертюр (столь всегда ратовавший за "la bonne figure" [30]) в X томе "Lepidopterologie comparee". "As far as we can judge, without knowing the language, nothing comparable to this work, especially in respect of the wealth and beauty of illustration, has ever been attempted before"[31], писал Rowland-Brown в "The Entomologist" и приводит наиболее ему понравившийся пример того, что он называет "the iridescence of truth" [32]:
"У многих дневных бабочек черного цвета, когда они очень свежие, замечается поразительный металлический или муаровый, сине-зеленый глянец, который не держится в препарированных экземплярах; между тем иллюстраторы добились того, что не только крылья переливниц-апатур отливают жаркой ("rich") лиловизной при том или другом углу, под которым обращается к свету страница (так что то правая, то левая половина апатуры показывает свой августейший «purple»[33]), но и некоторые черные сатириды вдруг при ударе света заливаются блеском зеленых чернил, и таким образом получается, что мастерский портрет выражает сущность бабочки полнее, чем сама бабочка в коллекции".
Мое посвящение во тайну вида не ограничивалось одним imago[34]; я проникал дальше и видел по соседству с изящной степной «авророй», уже упомянутой, ее тоненькую оливковую гусеницу, впервые найденную моим отцом и нарисованную Петровым с ювелирной тщательностью. Ратуя за работу по установлению метаморфоз, он тонко журил тех, кого называл «гениталистами»: как раз тогда вошло в моду принимать за безошибочный и достаточный признак видовой разности хитиновое строение мужского органа, представляющего собой как бы «скелет» вида, подобие «позвонка». "Как просто разрешились бы всяческие дискуссии, — писал он, — если бы те, кто занимается расщеплением схожих видов по этому единственному признаку, абсолютная устойчивость которого к тому же не доказана, заинтересовались бы, во-первыx, всей радиацией сомнительных форм во всем их палеарктическом аспекте вместо того, чтобы сосредоточиться на нескольких многострадальных французских департаментах, а во-вторыx, попытались бы (как это делали Chapman и <недописано>) выяснить и начальные стадии «извлеченного» вида, чтобы сравнить их с теми же стадиями вида, ранее «содержавшего» его". И действительно, открытие моим отцом гусеницы «терзита» дало возможность совершенно по-новому и весьма неожиданно сопоставить «терзита» с «икаром» и голубянкой Эшера.
Я вспоминаю, как меня сердило в атласах это "Raupe unbekannt"[35] в конце описанья бабочки, — и особенно то, что одним из прямо-таки естественных признаков рода становилось отношение числа этих «unbekannt» к числу видов в роде (иногда даже они совпадали). Для одних дневных бабочек Европы этот процент (около сорока) был понижен моим отцом до пятнадцати и, вероятно, понизился бы на столько же, если б он посвятил два-три сезона специальным западным видам. Я видел, у нас же в деревне, с каким упорством и успехом он, бывало, выслеживал «лешущую» (т. е. ищущую место для яйцекладки) самку, устанавливал кормовое растение и на нем выводил гусеницу, всегда учитывая при этом могущие представиться проблемы возрастных перемен корма, капризов симбиоза и зимования; я знал, как усердно он собирал во время своих путешествий все, что могло касаться биографии той или другой бабочки, причем во всех областях России его собиратели на местах выслеживали, выводили, делали зарисовки и препараты. Поэтому если все-таки в конце того или другого описания в "Бабочкаx Российской Империи" значилось: "гусеница неизвестна", то я понимал, что препятствия были до сих пор действительно непреодолимы (крайняя редкость вида, крайняя недавность его открытия, особо неблагодарные условия и обстоятельства наблюдения), но что при малейшей поблажке, при малейшем ослаблении бдительности со стороны сил, стерегущих тайны природы, воровской свет отцовской лампочки выхватит в росном хаосе степных трав маленькую рыбовидную личинку.
В этой взрывчатой череде возобновляемых впечатлений я ограничиваюсь первым томом, "дневными бабочками". В следующих трех, как и в позднейших выпусках "Lep. Asiat."[36] [37], иллюстрации, может быть, еще совершеннее, пушистость, ворсистость, смазанная полупрозрачность различных семейств «ночных» переданы так, что страшно пальцем провести по бумаге… но первый том всего дороже моей памяти. Как я упивался им в блаженно тягучие дни выздоровления с гренковой крошкой, язвящей меня в ягодицу, и слабостью в плечах, и все наливавшимся мочевым пузырем, и ватным туманом в затылке… Мне нравилась основательность отцовского метода, ибо мне нравились прочные игрушки. Для каждого рода приводился дополнительный список палеарктических видов, в рассматриваемых пределах не встречающихся, снабженный точными «отсылками». Каждой русской бабочке посвящалось от одной до пяти страниц убористого текста, в зависимости от ее малой известности или богатой вариетальности, т. е. чем бабочка была таинственнее или изменчивее, тем большее ей уделялось внимание. Там и сям небольшая карта содействовала усвоению подробного описания распространения вида и разновидностей, как овальная фотография в тексте кое-что прибавляла к тщательному изложению наблюдений над нравами данной бабочки. «Утечка» вида на запад до Андалузии прослеживалась столь же внимательно, как его приключения в среднеазиатских горах. Исправление старых ошибок оживлялось полемическими выпадами, и я вижу смеющиеся глаза автора, когда теперь читаю: "Я застал этот род [Syrichtus] в ужасном состоянии после полувека классификаторскиx потуг", или когда дохожу до добродушного разноса какого-нибудь «открытия» того немецкого путаника, который сыпал названиями напропалую (и все мифологическими, даже вальпургическими), причем создавал бесчисленные местные расы, часто воображаемые, и даже нарушал собственный, какой ни на есть, приоритет вторичным описанием той же разновидности из другого места но все ему прощалось за его энтомологический пыл, за великолепно собранные коллекции.
Перечитывая ныне эти четыре толстых тома (другого цвета, увы, чем синие дары, принесенные моему детству), я не только нахожу в них мои любимейшие воспоминания, не только наслаждаюсь сведениями, которые тогда мне были менее понятны, но самое тело, движение, склад всего труда затрагивает меня в профессионально-преемственном смысле. Я вдруг узнаю в слоге моего отца истоки собственной прозы: брезгливость к замазке и размазыванию, взаимная приспособляемость мысли и слова, геометридно-гусеничное продвижение фразы — и даже зачатки моих скобок. К этим чертам следует еще добавить благосклонность моего отца к точке с запятой (часто — перед союзом, что находится, верно, в связи с языком его университетских наставников, "that scholarly pause"[38], отголосок неторопливой английской логики, — но вместе с тем родственно столь ценимому им Монтеню); и я не думаю, чтобы развитие этих черт под моим часто вычурным пером было актом сознательной воли.
Выписываю следующие полнокровные и плавные периоды (из предисловия к роду "лицэн"):
"Грязь русских дорог служит в палящий полдень между двумя роскошными грозами питейным заведением для самцов голубянок, но не всякое сырое место пригодно; интенсивность посещаемости определяется некоей средней насыщенностью почвы, а также наибольшей ровностью ее поверхности. На таком притягательном месте округло-расплывчатой формы со сравнительно малым диаметром (редко — свыше двух футов) образуется группа тесно сидящих бабочек; если собрание вспугнуть, то оно целиком поднимается, повисает «перебирающим» полетом над данным местом дороги и опускается на него вновь с математической точностью. Только похолодание воздуха к вечеру или наплыв облаков кладет конец пиршеству. Мне приходилось наблюдать присутствие одного и того же экземпляра meleager'а с одиннадцати утра, когда он уже заседал, до без четверти шесть вечера, когда длинная тень от соседних дубов дотянулась до места, где, кроме моего знакомого, да еще нескольких заядлых голубянок, да горсточки золотых «адонай», оставалась (с трех часов дня) небольшая компания боярышниц, общим видом своим напоминающих не то петушков из бумаги, не то регату парусных лодок, так и сяк накрененных. За все эти часы состав и численность собрания менялись; и я не раз нечаянно сгонял моего meleager'а при изъятьи из общей кучи нужной мне бирюльки. Теперь, когда нашла тень, он эластично взлетел и, сделав выбор жердочки, выбор отнюдь не свойственный повадке «лицэн» в состоянии нормальном, но весьма характерный для выжидательного маневра бабочки, покинувшей «питейное» место, присел на лист осины, точно надеялся, что потемнение и холодок суть лишь временное влияние облака и сейчас можно будет вернуться. Через несколько минут я заметил, что он задремал; на сем и прекратилось наблюдение".